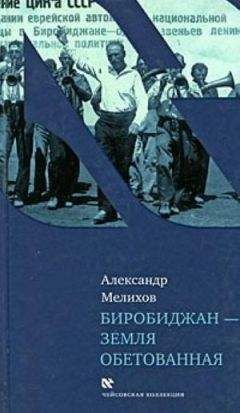любопытствующие рабочие. Чудом оставшись в живых, со сломанной ключицей Брежнев связывается с Андроповым и просит не рубить головы: я сам виноват. Наш дорогой Леонид Ильич и впрямь воплощал консьюмеризм с человеческим лицом!
И его эпоху умудренный новым опытом писатель Гдов, излюбленный персонаж писателя Евгения Попова, в «Прощанье с Родиной» (М., 2015) вспоминает тоже довольно «взвешенно», хотя он явно не принадлежал к любимчикам той эпохи:
«Советская власть погибла исключительно от собственной глупости. Что бы ей стоило потратить хотя бы часть тех денег, которые она отдавала неизвестно за каким хреном черным африканским разбойникам или белым жителям стран восточного блока, которые сейчас – фу-ты, ну-ты – и в ЕС уже попали, и вообще стали, видите ли, ЕВРОПЕЙЦЫ, потратить хотя бы ничтожную часть этих денег на закупку колбасы, твидовых пиджаков, джинсов «Ли», башмаков «Хаш паппис», туалетной бумаги и презервативов со смазкой? Тогда советская власть и сейчас бы благополучно существовала, как несостоявшийся Третий рейх у Гитлера. Народ у нас смирный, а начальники его – опять чудаки через букву «м», которые, как и их предшественники, опять «двум свиньям щей разлить не могут», и не подумайте, что две свиньи – это Украина и Россия, не шейте мне «национал-предательство», с одной стороны, и верноподданнический шовинизм – с другой. Да еще если б книжки разрешили свободно читать и писать – да я б и сам тогда лучшей доли, чем жить в СССР, не искал бы!»
А когда Гдов, уже оценивший опасности нарушенного мирового равновесия, попадает в советское ретро социального санатория «Пнево-на-Нерехте», он размышляет еще более смиренно: «Дивные, дивные здесь места, дивные, глухие, однако худо-бедно, но все же освоенные. Таковой, в принципе, может стать и вся Россия, если не погибнет, сумеет удержаться на плаву. Санаторий «Пнево-на-Нерехте» – символ такой России, и в этом нет ничего дурного, потому что это все же жизнь, а не смерть. Отвратная, якобы асфальтированная дорога из областного центра, с ямами и выбоинами, которые из путника душу вынут, а тело растрясут до самой печенки, но горячая вода в санатории есть всегда, котлетки дают простые, но вкусные (мясо из них воровать теперь невыгодно, капиталисты больнее накажут, чем коммунисты), заводов кругом нету и не будет, Нерехта по-прежнему впадает в Каспийское море, из нее мужики по-прежнему тягают лещей, подлещиков, окуней. И, слава богу, никто никого пока не режет, не поджигает, не взрывает, не бомбит, кровь людская остается в артериях, венах, и нам пора бы уже по достоинству оценить этот скудный уют, антипод насилия и животной дикости».
При всей очевидной его пародийности, это прикрытое горьким ерничеством или даже, пожалуй, юродством реальное смирение усталого, разуверившегося человека. Но Бог не создал человека смиренным, он создал его по своему образу и подобию. Человек всегда стремился ощущать себя значительным и для того выдумывал какие-то могущественные силы, в центре внимания которых он пребывает. Если даже он воображал эти силы такими безжалостными, как античный рок, это все равно лучше защищало его от экзистенциального ужаса, чем позитивистская картина мира, в которой до человека вообще никому нет дела, кроме него самого, такого мимолетного и беззащитного перед болезнями, старостью и смертью не только его самого, но и всех, кто ему дорог.
Именно поэтому угасание религии породило разнообразные ее суррогаты – социальные грезы, и упадок этих грез и является главной причиной алкоголизма, наркомании и самоубийств. И мало кто знает, что в течение блаженного брежневского двадцатилетия число самоубийств в Советском Союзе удвоилось. А в годы перестройки упало на треть. А потом снова начало расти, выведя нас на одно из первых мест в этом мрачном состязании.
Хотя, как справедливо замечает Гдов, «в сельпо продают «Castillos de Espana», и «Кока-колу», и колбасу десяти сортов, и пивом хоть облейся, и около сельпо стоит роскошная черная машина «Рено Логан», принадлежащая местному олигарху Никифору, выбившемуся в богатеи из шоферов (возил председателя поссовета»).
Но – не пивом единым жив человек.
«Гдов стоял на берегу и всерьез думал, не утопиться ли ему в Нерехте.
– Рехнулись все, – бормотал он, – Интернет, колбаса, туалетная бумага, мобильники, планшеты, начальство снова разрешило молиться Богу. Все есть, но – поздно. Весь мир уже рехнулся мало-помалу, и нет уже квалифицированного доброго старого психиатра, способного его вылечить. Рехнулись ВЕЗДЕ».
С последним я совершенно согласен, а вот с предпоследним не очень. Когда это у мира был хотя бы и недобрый психиатр, способный исцелить людское безумие?
«Человек вообще неизвестно кто или что… Он и так-то был фекалий безбожный, а советская власть, фашисты и капиталисты его окончательно в ХХ веке испортили. Сбилось человечество с пути, и правят им во всем мире, не только у нас, действительно что, скорей всего, одни полоумные. Потому что нормальный человек править другим не станет, правда, товарищи?»
И все-таки вчерашние антиподы – грозный генсек и писатель-диссидент – в зеркале искусства не то чтобы примиряются, но становятся необходимыми элементами общей картины. Непременно значительной, какой только и может быть жизнь в литературе.
И какой не может быть за ее пределами.
Ибо предметы и явления не могут быть значительными, значительными могут быть лишь рассказы о предметах. Именно в поисках значительности люди постоянно рассказывают о своей жизни друг другу и самим себе.
Только писатели делают это лучше.
Но мы, вместо того чтобы подпитываться современниками-соотечественниками, забываем и классиков.
Случайно ли, что не только столетие со дня рождения Евгения Шварца не породило особенных торжеств, но и во время перестройки не возникло заметного шварцевского бума? «Шварц все-таки печатался, – сказал мне гремевший в ту пору критик-обличитель, – а все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения… Впрочем, в «Драконе» Шварц не только Сталина изобразил, но и Хрущева предсказал». Я возразил, что образы Шварца будут блистать и тогда, когда вся эта мелюзга уйдет в едва различимую шеренгу мифологических персонажей, вроде Тамерлана и Сарданапала, на что знаменитость ответила мне снисходительным «mot» Соллертинского: «Ибсен для бедных».
Что ж, если бы Шварц черпал вдохновение не у Андерсена, а, подобно Сартру и Аную, у Эсхила и Софокла, то, возможно, он придал бы себе больше солидности в глазах солидных людей, но совместима ли солидность с почти цирковой виртуозностью его летучего дара?
Правда, при первом прочтении «Дракона», сколь я ни был ослеплен фейерверком остроумия, более всего меня поразило, что после убийства Дракона вовсе не приходит райская жизнь: «Покойник воспитал их