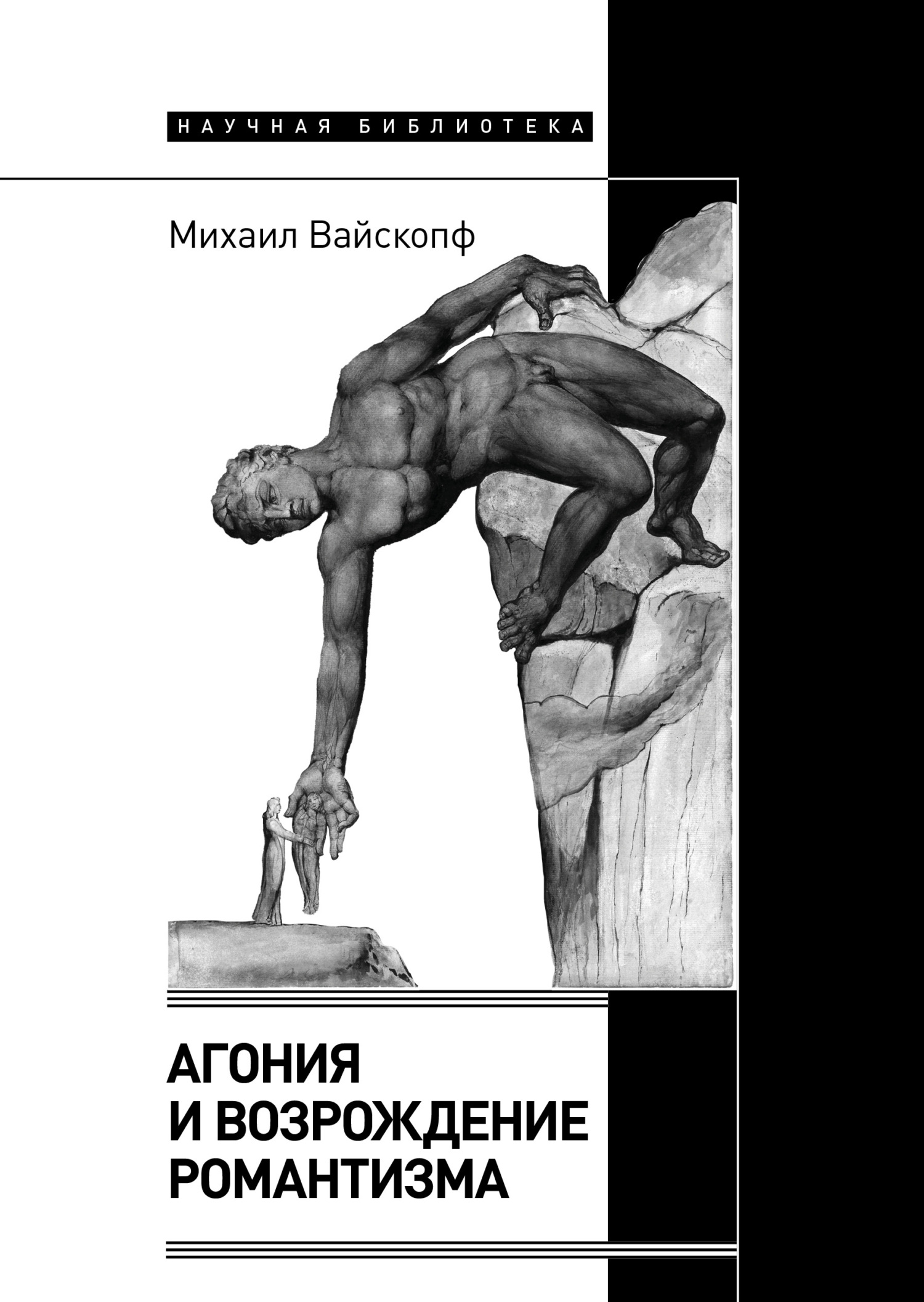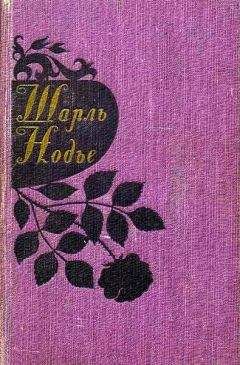32: 20, 22–23).
Во второй части «Отчаяния» устами своего разочарованного героя Набоков будет с негодованием акцентировать именно эту фрагментарность – некую игру Божества с адептом. В зачине шестой главы, где Герман запальчиво декларирует свой атеизм, он обвинит Бога и в том, что тот
никогда – заметьте, никогда! – не показывает своего лица, а разве только исподтишка, обиняками, по-воровски – какие уж тут откровения! – высказывая спорные истины из-за спины нежного истерика (3: 458).
Последние слова – высказывать истины из-за спины – означают, что в откровениях доминирует опять-таки голос, речь; видения же даются «исподтишка, обиняками» – то есть они мимолетны и отрывочны, а главное, что «нежные истерики» никогда не видят Его лица.
Требуется ретроспективно отследить, наконец, и сопутствующие библейские реминисценции, которые педалируют глубинную религиозно-антирелигиозную проблематику «Отчаяния». Уже во вводном абзаце герой-рассказчик, восхваляя свой творческий дар и упреждая кульминационную сцену романа, говорил о себе в третьем лице: «Тут я сравнил бы нарушителя того закона, который запрещает проливать красненькое, с поэтом, с артистом…» (3: 397). Подразумевается шестой стих из девятой главы Книги Бытия, – закон, запрещающий «проливать кровь человеческую» и не раз подтвержденный потом в других речениях. Первым, кто его нарушил, причем еще до откровения, был Каин, убивший своего брата Авеля: «И сказал Господь: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли» (Быт. 4: 10). Этот ветхозаветный рассказ (наряду, естественно, с мифологическими сюжетами сходного типа), ставший моделью для многих европейских и прежде всего романтических историй о братоубийстве, отзовется и у набоковского Германа, который в беседе с женой назовет будущую жертву своим братом – при всех поправках на Розена.
Еще одна довольно явственная отсылка к Писанию, на сей раз к Книге Исхода, – это «ярко-желтый столб», который станет для Германа и судьбоносной вехой на пути к его главному творческому деянию – убийству, и тем местом, где оно совершится:
Этот одинокий столб превратился для меня впоследствии в навязчивую идею <…> Мои видения по нему ориентировались. Все мои мысли возвращались к нему. Он сиял верным огнем во мраке моих предположений (3: 417).
Трудно, кажется, не опознать здесь Огненный столп (Исх. 13: 21–22), освещавший путь народу Израиля во время его исхода в Землю обетованную [642].
Христианская традиция аллегорически переосмыслила ветхозаветный Исход как внутреннее воскресение, ведущее человека от духовного рабства к обретению истины, – и эту прообразовательную гомилетику набоковский герой словно бы адаптирует к собственному пути – к итоговому, безукоризненно выполненному убийству как своей творческой индивидуации. До преступления он существует еще в несовершенном – раздвоенном виде, чуть ли не на правах собственной копии; и здесь характерен его очередной пародийный наскок на традиционные верования. В канун роковой встречи в гостинице Герман без обиняков травестирует в собственной персоне догмат о двойном – богочеловеческом – естестве Иисуса: «Я здесь представлен в двух лицах» (3: 436). Однако законченным постижением сути вещей станет для него не только убийство двойника, но и своя чаемая казнь, сулящее ему подлинный исход из «этого темного, зря выдуманного мира» подобий в блаженство «вечного небытия».
И все же, на мой взгляд, атеистический пафос Германа подорван некоторым скепсисом, который нагнетается в узловых моментах его повествования – слишком уж отчетливо они выдают свою генетическую связь с религиозной или смежной риторикой, также идущей от Библии. В символически педалированный момент – в преддверии Нового года – любовник Лиды художник Ардалион как бы в шутку пророчит ему участь будущего Цинцинната – декапитацию: «Все равно он в этом году будет обезглавлен»; а сама эта новогодняя ночь изображена в зловещих тонах, совместно подсказанных и поэзией, и Писанием: «Помню эту черную тушу ночи, дуру-ночь, затаившую дыхание, ожидавшую боя часов, сакраментального срока». Так сгущается набор эсхатологических реминисценций: и из Исайи («Сторож, сколько ночи?»), и из Блока («Из непомерной стужи, / Словно хриплый бой часов – / Бой часов [643]: „Ты звал меня на ужин. / Я пришел. А ты готов?“»), и из Маяковского; ср.: «Пришла. / Пирует Мамаем, / задом на город насев. / Эту ночь глазами не проломаем, / черную, как Азеф» («Облако в штанах»).
В том же ключе Герман преподносит новогоднюю вечерю, коллективный портрет действующих лиц: «За столом сидят Лида, Ардалион, Орловиус и я, неподвижные и стилизованные, как зверье на гербах». Следуют соответствующие уподобления, по поводу которых А. Долинин и О. Сконечная напоминают, что основные персонажи «Отчаяния» вообще «имеют определенные зоологические коннотации: Ардалион соотнесен со львом, Лида – с козой [644], как на прощание страстно называет свою кузину-любовницу пьяный Ардалион (3: 479), Орловиус – с орлом (через свою фамилию)» (3: 767). Стоит добавить, что в последнем случае семантика несколько даже утрирована посредством метафоры, запечатлевшей руку Орловиуса – «старческую, с когтями грифона» (возможно, аллюзия на его мрачную профессию страхового агента, связанную со смертью). Самого себя Герман в той же сцене величает, однако, «человеком-молнией, озарившим эту картину» (3: 436).
Понятно, что под «молнией» подразумевается всего лишь фотоснимок с магниевой вспышкой – но поражают внятно библейские и новозаветные коннотации этой сцены, на мгновение приоткрывшие мощный религиозный потенциал набоковского романа, приглушенный его полудетективной фабулой. Перечислены именно те существа, что явились пророку Иезекиилю в видении «Славы Господней» – где они обозначены в качестве своих же собственных «подобий», а не воплощения самой Божественной сути:
Подобие лиц их – лице человека и лице льва с правой стороны <…> а с левой стороны лице тельца у всех четверых и лице орла у всех четырех <…> Огонь ходил между животными, и сияние от огня и молния исходила из огня» (Иез. 1: 10, 13).
Тот же комплект воспроизводится потом в Апокалипсисе:
И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему (Откр. 4: 7).
Понятно, что отсутствующего «тельца» на этой картине у Набокова комически замещает «коза».
Возможно, внимание Набокова привлек именно мотив «подобий», корреспондирующий с его ведущей гностико-неоплатонической темой – и не только в «Отчаянии», но и в «Приглашении на казнь», чей герой тоже томится в мире копий, кукол, подделок, заслоняющих от него ту суть, что раскроется ему лишь после смерти. В обоих романах перед героями стоит отчасти тождественная проблема, решение которой в обоих случаях обусловлено будет их казнью.
Его демиургические потуги обернутся самообманом – той самой мнимостью, которую он вменяет окружающему бытию, переполненному, как он думает, фальшивыми тавтологиями. Тема парности нагнетается, среди прочего, в показе отеля и его насельников: «Когда мы вошли в номер, то у меня было опять ощущение чего-то очень знакомого» (3: 453). Как