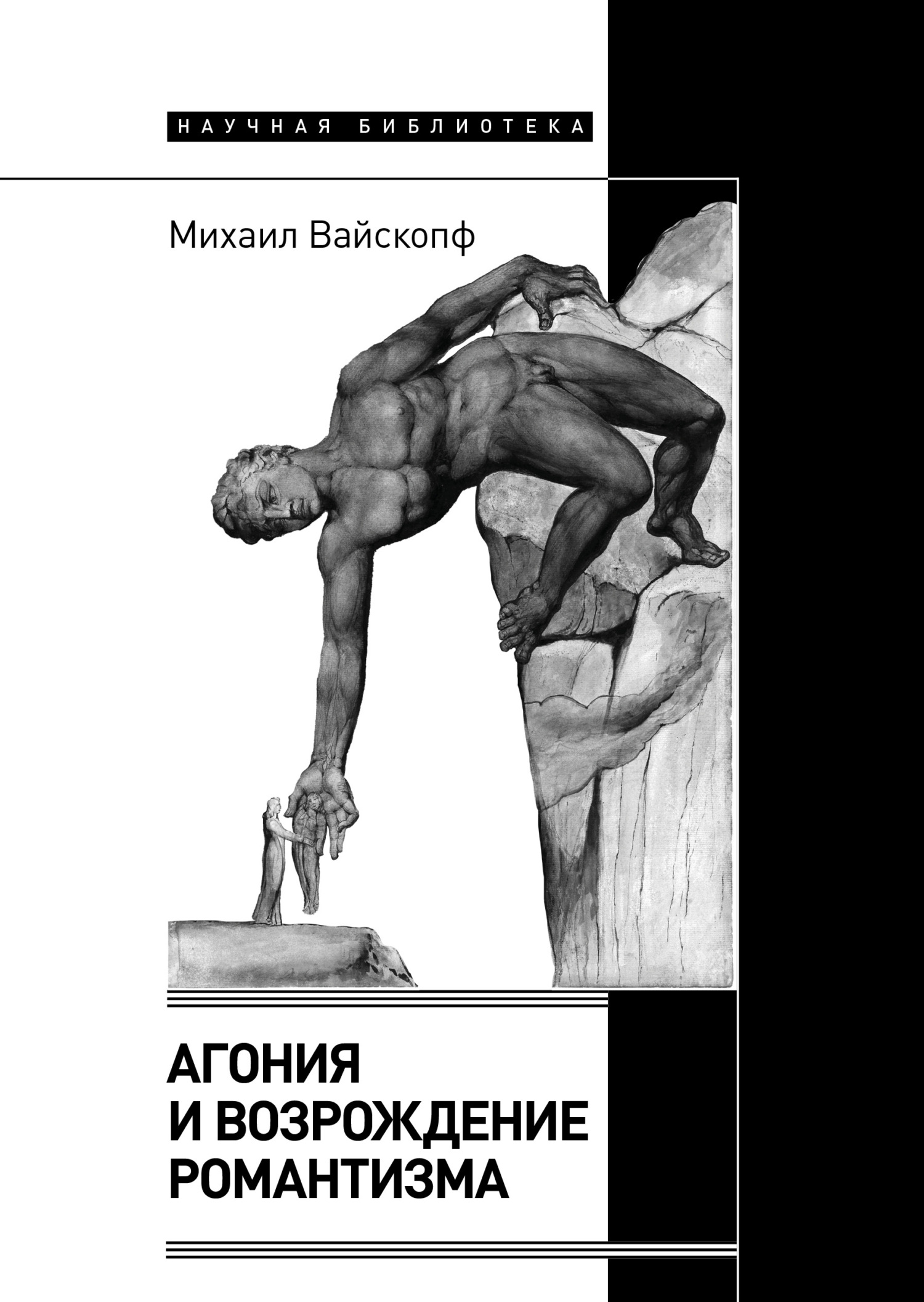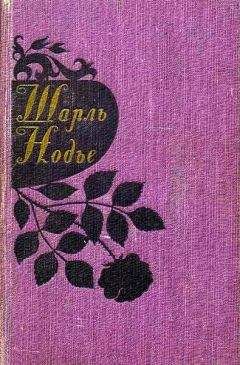– художник, побуждаемый таким же чувством, смотрится в своем произведении [647].
Нарциссическому самоупоению розеновского Всевышнего вторит и набоковский Герман, заполучив двойника: «Сейчас весь смысл моей жизни заключался в том, что у меня есть живое отражение».
Трудно все же понять, как соотносилась эта идея творческого зеркала, воспринятая автором у романтиков, с другой их излюбленной мыслью – о посмертном возвращении бытия к его библейскому первообразу: «Когда пробьет последний час природы, / Состав частей разрушится земных: / Все зримое опять покроют воды, / И Божий лик отобразится в них». Ведь Тютчев был одним из любимых поэтов Набокова.
Казалось бы, в «Отчаянии» романтико-демиургические амбиции Германа парадоксально инвертированы, коль скоро свое «живое отражение» полубезумный герой целенаправленно пестует не для новой жизни, а для убийства, считая его апофеозом искусства (идея, по наблюдению С. Давыдова, восходящая к эссе де Квинси [648]). Но инверсия эта ярко подтверждает исконно романтическую суть набоковской книги, хоть и пропущенную через родственную ей традицию детективных ребусов и повествований о двойниках, деформированную авторской иронией (мы знаем, насколько житейски подслеповатый фантазер Набокова склонен к самообманам). Ведь в чисто метафизическом плане для Германа-«творца» запланированное им уничтожение своего одушевленного дубликата – это достижение именно того совершенства, которое романтики трактовали как мертвенно-идеальный покой, запечатленный в первозданном зеркале вод. Просто в «Отчаянии» говорится о насильственном прекращении персонального, а не вселенского бытия (трактуемого как морок) – с привнесением того же мотива оцепенелого водного зеркала: «Смерть – это покой лица, художественное его совершенство; жизнь только портила мне двойника; так ветер туманит счастье Нарцисса», – здесь не столь важно, настоящего или мнимого. И ниже: «Теперь, когда в полной недвижности застыли черты [Феликса], сходство было такое, что, право, я не знал, кто убит – я или он <…> Мне казалось, что я гляжусь в недвижную воду». Тютчевский ход сжат до индивидуального апокалипсиса.
По-настоящему логичным решением со временем покажется Герману не только убийство дублера, но и своя неизбежная казнь, сулящая ему долгожданный исход из «этого темного, зря выдуманного мира» сплошных подделок и копий в достоверное, доподлинное царство «вечного небытия». Для другого набоковского героя альтернативой станет, однако, сократовская надежда на загробное обретение истины как утраченного оригинала земной жизни – та надежда, которую вынашивает смертник Цинциннат, лишь «ошибкой попавший… в этот страшный, полосатый мир»: «Должен же существовать образец, если существует корявая копия». И здесь знаменательны как инерционная связь новой книги с «Отчаянием», так и ее решительный разрыв с ним.
Нетки Цецилии Ц. о романе Набокова «Приглашение на казнь»
Глубинную проблематику этого лучшего – по оценке самого автора – из набоковских романов (1935–1936, отд. изд. 1938), написанного им вслед за «Отчаянием», во многом должны прояснить очень важные и тоже пока не учтенные подробности его генезиса.
Впечатляющий пример преемственности проглядывает, среди прочего, в замечаниях о «плотской неполноте» Цинцинната,
о том, что главная часть его находилась совсем в другом месте, а тут [т. е. в земном заточении], недоумевая, блуждала лишь незначительная доля его, – Цинциннат бедный, смутный, Цинциннат сравнительно глупый, – как бываешь во сне доверчив, слаб и глуп.
В своем отличном комментарии к роману «Приглашение на казнь» Ольга Сконечная находит здесь один из знаков «родства Цинцинната и Чернышевского», о чем, по ее словам, свидетельствует «характерное сокращение в дневнике, изъятом у последнего при аресте и вскользь упомянутое автором „Дара“: „слабь! глупь!“ [слабость, глупость]» (4: 624). Аналогия не вызывает сомнений, однако за ее рамками процитированная фраза из «Приглашения на казнь» навеяна знаменитым «Недоноском» Баратынского:
Как мне быть? Я мал и плох;Вижу рай за их волнами,И ношусь, крылатый вздох,Меж землей и небесами <…>Мир я вижу как во мгле;Арф небесных отголосокСлабо слышу… На землеОживил я недоносок.Отбыл он без бытия:Роковая скоротечность!В тягость роскошь мне твоя,О бессмысленная вечность!
Подобно Недоноску, Цинциннат изображен созданием заведомо незавершенным или, так сказать, недоношенным в визуально-физическом плане: ведь его внешность «складывалась из <…> очертаний как бы не совсем дорисованных <…> губ, из порхающего движения пустых, еще не подтушеванных рук» (5: 118–119). Во «Влюбленном демиурге» я стремился доказать, что эта маркированная неполнота и некая внешняя зыбкость, как бы телесная незавершенность облика – фамильный признак мечтательных романтических одиночек. С другой стороны, персонаж Баратынского лишен того духовного превосходства над окружением, которое обычно возмещало им непригодность к земному существованию [649]. Как раз этот компенсаторный дар, не в пример ему, в изобилии наличествует у набоковского героя.
В литературно-генетический фонд «Приглашения на казнь» входят также те проникнутые гностическим умонастроением сочинения, где декларировалась тема, обозначенная Баратынским, но и без него широко востребованная романтизмом, а потом и символизмом (Блок). Я имею в виду тему «бессмысленной вечности», то есть тему бытия, уставшего от самого себя и томящегося по своему прекращению («отбыл он без бытия»). Она развертывалась и у Гоголя, и у Лермонтова – но и у менее прославленных авторов наподобие Бенедиктова с его «истомленным миром», мечтающим «отдохнуть на персях Бога» («Жалоба дня», 1835) [650]. Через полстолетия тема этой космической усталости возобновится у Фета. Когда мы читаем в «Приглашении на казнь»: «Вещество устало. Сладко дремало время»; «Да, вещество постарело, устало, мало что уцелело от легендарных времен, – две-три машины, два-три фонтана» (5: 69, 73), то эти строки отсылают нас к его позднему стихотворению об осеннем и словно бы предсмертном засыпании утомленного мира:
Устало все кругом: устал и цвет небес,И ветер, и река, и месяц, что родился,И ночь, и в зелени потусклой спящий лес,И желтый тот листок, что наконец свалился.Лепечет лишь фонтан средь дальней темноты,О жизни говоря незримой, но знакомой…О ночь осенняя, как всемогуща тыОтказом от борьбы и смертною истомой!
Среди более насущных претекстов емкую сюжетообразующую функцию у Набокова получили суждения Ю. И. Айхенвальда – его старшего друга и наставника [651]. Мы помним, насколько Герман в «Отчаянии» одержим был идеей дублей, двойничества, копирования. Живописец Ардалион ему возражает: «…художник видит именно разницу. Сходство видит профан» (2: 421). На деле, однако, он просто повторяет вступление критика к его «Силуэтам русских писателей»: «Разница, а не сходство <…> – вот что отличает главное в искусстве» [652]. В чисто фабульном плане непониманием этой уникальности мотивировано будет и само поражение Германа, убийцы и несостоявшегося творца.
В основе личности, продолжал автор «Силуэтов»,
лежит та душевная субстанция, которая все объясняет, сама необъяснимая, которая служит ключом ко всему, сама же роковым образом и навсегда остается замкнутой для нашего познания, являет собой гносеологическую тайну.
Критик адаптирует здесь к собственной эстетике переведенного им Шопенгауэра с его учением об эмпирическом и умопостигаемом характере. У Набокова именно эта «гносеологическая тайна» навлекает ненависть на Цинцинната, повинного