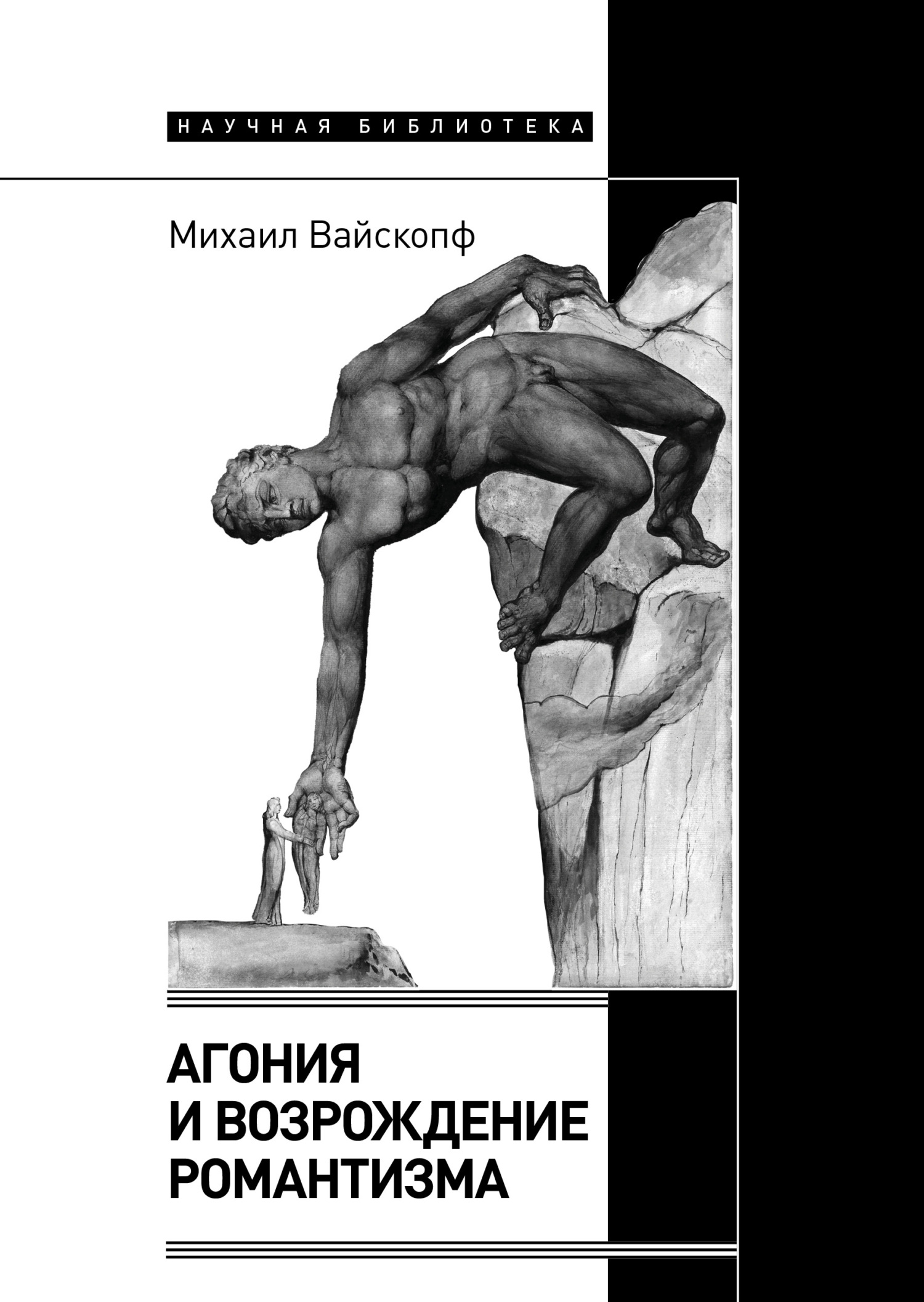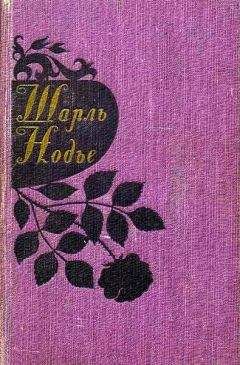в глазах общества «в гносеологической гнусности» [653], обозначенной, в свою очередь, лишь «обиняками вроде: непроницаемость, непрозрачность, препона» (4: 87).
По словам Айхенвальда, безотносительно к «среде» писателя и любым внешним влияниям,
как много бы ни вычитывали мы чужого из его личности, мы все равно в конце концов натолкнемся на него самого, на его самочинность, на его aseitas, – то неразложимое и последнее ядро, в котором – вся суть, которое не может быть выведено ниоткуда [654].
В «Приглашении» процесс высвобождения духовного ядра из-под чуждых напластований завершается для Цинцинната тождественным итогом:
Я снимаю с себя оболочку за оболочкой и наконец… не знаю, как описать, – но вот что я знаю: я дохожу путем постепенного разоблачения до последней, неделимой, твердой, сияющей точки, и эта точка говорит: я есмь!.. (4: 98).
Вскоре мы вернемся к этой онтологической сущности, но уже на другом материале.
Что касается темы казни у Набокова, то многие ее источники или аналоги найдены и подытожены в образцовой статье А. А. Долинина «„Искусство палача“: Заметки к теме смертной казни у Набокова» [655]. Тем не менее от этого вдумчивого комментатора ускользнули другие чрезвычайно значимые претексты той же темы.
Начнем с Генриха Гейне, который в России всегда был одним из самых почитаемых западных поэтов. В юности Набоков даже переводил его стихи, несмотря на слабое знакомство с немецким языком [656]. Но позднее в Германии, уже после 1933 года, он, очевидно, увлекся его прозой – точнее, «Мемуарами» (публиковавшимися лишь в их уцелевшей краткой версии). Вероятно, само обращение к ним стимулировала теперь ненависть нацистов к Гейне: тотальный бойкот, помпезное сбрасывание его статуи в Рейн и прочие поношения. В данном же случае интересу способствовала, судя по всему, нетривиально поданная в «Мемуарах» тема палачей и казней, предельно актуализированная политическим террором.
У Сирина она наметилась еще в «Отчаянии», где к упомянутому влиянию Айхенвальда отчетливо примешалось воздействие Гейне. Готовясь к своей неминуемой казни за убийство, Герман строит скептические гипотезы об имитациях и оригиналах в загробном мире. Если в раю умершего «встречают дорогие покойники», размышляет герой, то «никакая душа на том свете не будет уверена, что ласковые, родные души, окружившие ее, не ряженые демоны» (3: 458–459). Его опасения, однако, упредил Гейне, заметивший в «Мемуарах», что как на небе, так и в делах любви, «не знаешь, с кем ты тут или там встретился – с чертом ли, который замаскировался ангелом, или с ангелом, который замаскировался чертом» [657].
Процитированную сентенцию мемуарист присоединяет к рассказу о своей дюссельдорфской юношеской любви к шестнадцатилетней Зефхен (Йозефе) – дочери, племяннице и внучке палачей. Как раз эта история и отозвалась в «Приглашении на казнь».
Росшая в одиночестве Зефхен отличалась столь же «величайшею строптивостью и дикостью» [658], что и набоковская двенадцатилетняя Эммочка – «дикое, беспокойное дитя» (4: 70). Эммочка тоже дочь палача, вернее его главного подручного – Родрига Ивановича, директора тюрьмы; он же, при других бутафорских оказиях, сердобольный мужик Родион, ее простонародный «тятька» (4: 90). Впрочем, «роковым мужиком» Цинциннат заочно называл и самого ката.
Немаловажен и специфический колорит Зефхен:
Волосы у нее были рыжие, совсем кроваво-красные, и спадали длинными прядями на плечи, так что она могла завязывать их ниже подбородка. Но это придавало ей такой вид, как будто ей перерезали шею, и из этого места красными струями вытекает кровь [659].
Напомню заодно о том «фаршике», который у осужденного на декапитацию Цинцинната попросит связать для себя Родион (4: 133). В его портрете нагнетается тот же фамильно-палаческий цвет: «тятька» Эммочки декорирован «курчаво-красной», «жарко-рыжей бородищей», «рыжей грудью», а для вящей аллегорической наглядности он «разевает ярко-красный рот», – и весь этот однотонный ряд подытожен будет ярко-красным эшафотом (4: 59, 83, 116, 124, 142, 172).
Не лишенная обаяния Эммочка раскрашена Набоковым совсем иначе, однако типологическая близость к предшественнице проглядывает в самих ее повадках. Если каждое движение Зефхен, по высокопарному замечанию мемуариста, «выражало собой музыку ее души» [660], то Эммочка наделена неуемной тягой к хореографии. После ее отъезда Родион жалуется Цинциннату: «Скучно, ой скучно будет нам без дочки, ведь как летала, да песни играла…» (4: 152) Артистические пристрастия не чужды, впрочем, и самому «тятьке», который изначально стилизует себя под оперного певца и даже «поет хором», а со смертником танцует «тур вальса» (4: 48, 59). Подруга юного Гейне тоже была певуньей и «знала много старых народных песен», придавших, как он вспоминает, его поэтическим дебютам «мрачный и суровый колорит, такой же, какой лег на эпизод, в то время бросивший кровавые тени на мою молодую жизнь и на мои мысли» [661].
Таких эпизодов, собственно, была два, но они как бы срослись воедино. Одна из песен Зефхен, любовно-палаческая, заканчивалась куплетом о предстоящем обезглавливании девушки, готовой, однако, лобзать меч своего губителя. Однажды, повествует Гейне, его так потрясло это пение, что
мы оба с рыданием бросились друг другу в объятия, не говорили ни слова почти час, и слезы до того застилали нам глаза, что мы смотрели друг на друга как бы сквозь завесу [662].
У Набокова с этой сценой аукаются упоминавшиеся выше шутовские псевдопризнания м-сье Пьера:
…Иногда, в тихом молчании, мы сидели рядом, почти обнявшись, сумерничая, каждый думая свою думу, и оба сливались, как две реки, лишь только мы открывали уста (4: 155).
И если у мемуариста говорилось о нежных объятиях плачущей дочери палача, то у Набокова – о самом палаче, якобы растроганном мнимой отзывчивостью жертвы:
Не знаю, как вам, но мне хочется плакать. И это – хорошее чувство. Плачьте, не удерживайте этих здоровых слез (4: 111).
Гейне вспоминает, как в другой раз Зефхен извлекла из кладовой огромный дедовский меч, «которым была обезглавлена уже сотня горемык» и которым она перед ним
принялась махать очень сильно, напевая при этом с плутовски угрожающим видом:
Хочешь ли ты меч обнаженный лобзать,Меч, ниспосланный Богом самим?
Тут он бросился целовать подругу, не выпускавшую, однако, из рук орудия казни [663]. Впору напомнить пародийно-сексуальные – вернее, гомосексуальные – обертоны в изображении Пьера и его подручных. Сперва директор тюрьмы игриво назвал ката будущим «суженым» смертника (4: 51), а последнего, в свою очередь, сравнил затем с «красной девицей» Родион (4: 91). И здесь, и ниже («красный день!»; «красная магия!») примечательна двусмысленность шаблонного цветового эпитета. Мотив «суженого» замыкают эротические излияния самого палача, которые под занавес тот доведет до прямой аналогии между казнью и браком (4: 154–155).
В уютной камере, куда Пьер загнал безответного Цинцинната, он сопоставляет приговоренного с «краснеющей невестой», объясняется в «крепкой любви» к нему – и не прерывая лирики, достает топор из