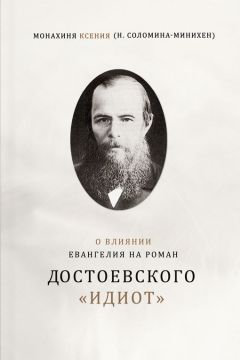Соглашаясь, чтобы меня сфотографировали, я в момент выполнения съемки теряю чувство само аутентичности, переживаю ощущение «двойничества», «самозванства», я (субъект) становлюсь фотопортретом (объектом). Феномен фотографирования состоит в том, что объектив запечатлевает момент, когда субъект становится объектом. А в миг фотосъемки я и не субъект, и не объект. Мгновенная остановка времени навсегда фиксируется аппаратом и становится фотопортретом. Я прохожу микро-версию смерти, умерщвления моего «я». Я становлюсь объектом, вещью, неодушевленным предметом, прекращаю сопротивление и предвижу, что когда очнусь, глядя на фотографию, всегда буду видеть в ней не себя, а двойника, фантом, призрак, Смерть[71]. В миг, когда глаза мои смотрят в окошко объектива, фотокамера ловит и фиксирует навсегда взгляд моих глаз, то, как я из глубины самого себя взираю куда-то вовне, переходя за грани прошлого и настоящего в «навсегда» На основе сказанного Бартом можно развернуть ряд сопоставлений, подчеркивая как сходства, так и различия живописи и фотоискусства. И в живописном портрете и в фотопортрете детали костюма могут говорить о реальном историческом времени, социальном статусе, вкусах, национальности позирующего. Умение раскрыть смысл и значение дополнительной информации, которую несут детали антуража, зависит по-преимуществу от созерцателя, рассматривающего работы со стороны. Но отношение живописца и фотографа к деталям внешней обстановки различно. Живописец, если и не всегда по своему усмотрению, но все же сам выбирает детали, сам компонует их нужным ему образом. Он создает портрет не в один прием и, внося изменения в композицию, постепенно воссоздает облик, сквозь который проступает индивидуальность портретируемого. Компоновка, выбор колорита, воспроизведение выбранных заказчиком деталей костюма, обстановки, даже размеры полотна дают возможность живописцу не только указать на индивидуальный характер портретируемого, но изобразить, показать и представить зрителю, что для этого человека, позирующего ему, всего важнее в жизни. А профессиональный взгляд фотографа в одно мгновение отбирает детали, которые фиксирует объектив фотокамеры, после чего они навсегда становятся значащей характеристикой фотографируемого[72].
Заглавие и подзаголовок Освещенная камера: Рефлексии над фотографией указывают на нарративный потенциал фотоискусства, но экфразиса фотопортрета в трактате не дается. Барт трактует фотографию как специфическое искусство фиксации момента: «там, тогда, так – и навсегда». Щелчок затвора фотокамеры приказывает мгновению: «Стоп! Остановись, замри!»[73]. Фотообъектив пронзает и останавливает движение во времени; по словам Барта, момент съемки – это пункт (punctum – укол, дырочка), точка, в которой прокалывается насквозь все что было. Прошлое приходит к абсолютному завершению, фиксируется. Всё от природы наделенное способностью изменяться, в фотопортрете предстаёт недвижимым как в смерти. Фотография – не напоминание, не предупреждение, не memento mori, a momentum топ, punctum temporis. Фотография не натюрморт, а жизнь, застывшая как в смерти, навсегда остановленная (не «still life», a «stilled life»). «Мы стремимся видеть в фотографии представление о живой жизни, но само это стремление – не что иное, как мифическое отрицание надвигающейся смерти. Фотография – это простейший род tableau vivant, «живой картины», ре-презентирующей неподвижность: застывшего выражения лица, фигуры, позади которых мы видим смерть»[74].
Семиологические интерпретации фотографирования и фотографии Барта сопоставимы с толкованиями С.М. Эйзенштейном авангардных фотографий «фото глаз а» и, подобно теориям Эйзенштейна, в их подтексте сохраняются некоторые компоненты тех ста диально-генетических теорий, на основе которых Леви-Брюль, Леви-Стросс и другие антропологи строили свои толкования архаичной симпатической магии, умерщвления и оживления убиваемого и воскрешаемого жизнедателя – фетиша или тотема[75]. Следуя своему постулату «Смерть автора», Барт устраняет из трактата представление о фотографе, творце, взгляд которого распознает в лице фотографирующегося будущий эстетический объект, который по исполнении предстанет как портрет души. Барт заменяет автора, сознательно отбирающего своим взглядом объект воспроизведения, механической установкой, фотокамерой и глазком объектива. Творческая работа мастера, процесс создания фотографии как эстетического объекта – проявление, закрепление, отпечатывание негатива, превращение негатива в позитив опускается, автоматическая работа фотокамеры приводит к созданию отпечатка на фотобумаге. Эта материальная вещь, на которой отпечатался и замер навсегда след живой жизни, называется фотографией, а не фотопортретом или фотопейзажем. В создании фотографии есть что-то от примитивной магии, от чуда превращения живого в неживое, в вещь. И вот эта вещь, созданная мгновенным щелчком объектива, проколом, прострелом, застывшая на фотобумаге, в восприятии созерцателя, держащего в руках фотографию, становится предметом его индивидуальной рефлексии. Тот же магический щелчок-прокол, который создает фотографию, прокалывает и чувства созерцателя и определяет своеобразие его рецепции. В полном согласии с построением работы, в первой части которой ищущий глаз фотографа заменен механическим глазком фотокамеры, демонстрируя тем самым тезис о смерти автора, вторая часть, «Рефлексии над фотографией», указывает на восприятие и переживания созерцателя той странной вещи, которая обязана своим существованием магическому щелчку объектива. Трактат Барта написан от первого лица, но не от авторского «я», а от лица созерцателя, рефлексирующего по поводу мгновения, застывшего на рассматриваемой им фотокарточке (специально изготовленной вещи)[76]. Это рефлексирующее по поводу фотографии «я» представительствует от какого-то индивидуально-коллективного первого лица: Я беру в руки фотоальбом (хранилище семейной памяти), вынимаю из него и с любовью рассматриваю вещь, которая называется фотографией моих родителей и была сделана еще до моего рождения. Простреленные глазком нацеленного на них объектива, мои отец и мать навсегда застыли на фотографии такими, какими я их никогда не знал – молодыми, прекрасными, счастливыми, на фоне знакомого пейзажа или в раме интимного домашнего интерьера. И этот же магический прокол пронзает насквозь мое восприятие: размышляя, рефлексируя и переживая увиденное, я возвращаю отпечатки прошлого в жизнь.
Превращение живого в застывшую навсегда вещь и возвращение отпечатка отошедшего в вечность ко мне, носителю живого бытия и живой памяти, хранит в своей основе переживания метафор, характерных для опыта архаичного фетишизма, магических актов оживления и воскрешения умерщвленного тотема. В романе Достоевского, в сцене рассматривания Мышкиным фотопортрета Настасьи Филипповны и мгновенном акте едва ли не молитвенного целования фотографии (мертвой материальной вещи) можно видеть спонтанно проявившийся порыв к оживлению, спасению и воскрешению умершего тотема. Так именно можно толковать замечания князя (созерцателя фотопортрета) о точечках под глазами Настасьи Филипповны, словно бы проколовших его сочувствием и пониманием ее страданий, целование удивительного лица, отпечатавшегося на фотографии и сопровождающее поцелуй восклицание: «Ах, как бы добра! Все было бы спасено!». В рассказе Рогожина о его первой встрече с красавицей, словно застывшей перед ним в дверной раме коляски, тоже зафиксирован этот момент магического прокола: «Так меня и прожгло!» (11). Восклицание заставляет обратить внимание на другие элементы реликтовых тотемистических переживаний, Рогожин, сын купца-миллионщика, стремится захватить, отвоевать, откупить себе фетиш, охотится за ним, поклоняется ему как идолу, не может жить без обретения тотема в свое обладание, и закалывает живую жизнь для того, чтобы этим жертвоприношением навсегда оставить за собой фетишизированный объект[77].
Бартовские интерпретации фотографий – пример изысканной постмодернистской реконтекстуализации. Но как реконтекстуализации они конструктивно плодотворны и укоренены в истории культуры. Барт ничего не говорит об индивидуальном искусстве фотографа, в чем можно видеть проявление центральных для деконструкта установочных формул: «Смерть автора» и «Текст, умирая, создает новый текст», В терминах теории экфразиса эту последнюю формулировку можно понять как «косвенный рассказ о пережитом». Отдавая должное всей весомости и значимости второй части авторского подзаголовка, постулирущего примат рецепции над авторством, весь текст трактата и отбор представленных на рассмотрение фотографий, словно вынутых из кипсека и перенесенных в музейную экспозицию, можно интерпретировать как серию экфразисов. У Барта фотопортрет становится подвидом искусства эпитафии Pro memoria, в самой природе которого лежит обращение к созерцателю: Sta, viator, а по Фрейденберг – косвенный рассказ, апеллирующий к способности созерцающего энергией воспоминания воскресить, разбудить навсегда уснувшие силы живой жизни[78].