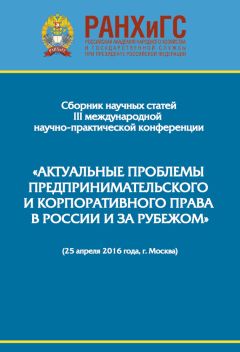Не случайно на этом фоне и то, что среди глобальных тенденций своего времени Иванов отмечал коренной сдвиг в мироощущении – кризис явления и болезненную смену самого образа мира в нас, как «разложение внутренней формы являющегося», которая «в нас обветшала и омертвела» (3, 369–370), то есть кризис именно того, что здесь предложено называть «состоянием сознания». Символизм, с его точки зрения, – естественное противоядие разразившемуся кризису, только с помощью которого возможно восстановить затемненную или вовсе утерянную референцию к фундирующим всю человеческую культуру архетипическим формам связи имманентного и трансцендентного.
В лингвистическом смысле ивановский «кризис явления» означает, что преобладающие интенции рационалистического сознания, основанного на преимущественной эксплуатации объективирующих сил языка, произвели и закрепили в культуре и сознании систему неадекватных искусственных объективации и имманентной, и трансцендентной сфер, как бы накинув на них неправомерно сплетенную дискретную сеть. Не имеет при этом принципиального значения, как – впрямую или условно – понимается система этих дискретных объективации. Отказавшись от веры в предустановленный состав трансцендентных по природе платоновских идей (а, соответственно, и от веры в их прямое именование языком) и обратив взор исключительно на имманентную субъектную сферу и на «предметный» уровень чувственной реальности, сознание естественно пришло к абсолютной конвенционализации имен языка (и языка вообще), воспринимаемых в таких условиях как сугубо условные значки для установленного «состава» предметного и ментального миров, конвенционально же или неконвенционально при этом понимаемого. Язык все более становится похожим на искусственные, в частности, логические, поручни для «самодвижущейся» субъективности, все более отдаляющейся от полюса «реального». Почти исключительно словесное или семантическое понимание «предметности» и установка на синтаксический аналитизм – и одна из причин, и следствие кризиса явления.
Возврат к естественному «касанию» в языке трансцендентного и имманентного не значит в этих условиях простого возврата к мифу как к определенному содержанию в определенной словесной форме, напротив: символический способ референции в условиях кризиса явления возможен, по Иванову, как мы видели, через преодоление искусственной дискретности «предметов» посредством особого обращения с собственно языковой семантикой. Выше эта «языковая стратегия» ивановского символизма уже была описана как установка на скрещение в предикативном акте полярно противопоставленных в их статике антиномичных семантических зон – скрещение, обнаруживающее возможность взаимообратимости синтаксических позиций этих зон и их способность к осуществлению совместной одновременной референции единого, необъектного и необъективируемого, символического референта.
Уже не раз говорилось, что ивановская символическая референция – это референция не только к необъектному, но и к принципиально языком не объективируемому пласту реальности. Последнее обстоятельство необходимо, однако, уточнить – в связи с тем, что и при «обычной» референции могут мыслиться существующими наряду с объектными и необъектные по своей природной экзистенции, но тем не менее объективируемые языком референты (в простом случае – «процесс» или «действие», поддающиеся языковой объективации и именно с ее помощью референцируемые). Ивановские же символические референты метафизически мыслятся принципиально не поддающимися языковой объективации.
Именование (и все его синтаксические модификации, включая дескрипции) – очевидный и самый востребованный способ референции не только в повседневной речи, но и в позитивистски или рационалистически окрашенных философских концепциях, для которых высказывания в конкретной «посюсторонней» ситуации либо с чувственно данными, либо с ментально-образными явлениями или фактами (расселовскими событиями) являются не просто одним из возможных регистров речи, но базовым, фундирующим все другие регистры речи принципом языка как такового. С ивановской точки зрения, данный принцип, основанный на редуцированном понимании референцирующих форм языка и предполагающий, соответственно, приоритет чувственно-объектного, ментально объективированного или «смешанного» уровней реальности, не должен, да и не может захватывать другие, онтологически более высокие ее уровни. Невинная с виду и как бы чисто языковая экспансия оборачивается и «гносеологическим», и прямо онтологическим диктатом, так как принцип всеподавляющей языковой объективированности – не только очевидное для Иванова пассивное следствие соответствующих философских идей; опасность состоит в том, что он может стать и уже стал активной причиной искусственного искажения форм восприятия и философского толкования не только чувственного и непосредственно мыслимого мира (о чем уже говорилось), но и онтологической природы «высших» уровней реальности. В частности, именно подминающий мысль своей как бы очевидностью диктат принципа всеподавляющей языковой объективации стал одной из причин широкого распространения по большей части абсолютно произвольного дискретного понимания природы референтов «высших» сфер и даже причиной встречающейся сознательно-бессознательной и в любом случае парадоксальной «отливки» в статичные формы самого энергийного онтологического начала, столь активно и чаще всего в пику сущностной онтологии обсуждаемого в философии последних десятилетий. [61]
Следует, возможно, специально оговорить также и то, что и для Иванова процесс языковой объективации того, что будет помещено в позицию субъекта суждения, – это константа языка, которую нельзя ни преодолеть, ни обойти, но которую можно использовать по-своему. Эта языковая константа понималась им (примерно по той же логике, что и поверхностная событийная канва речи – см. выше) как сугубо «техническое» требование, идущее от имманентной природы языка и потому никак не связанное, особенно – в случае символических референтов, с их онтологической природой. Да, в определенном смысле объективирует и сам изолированный ивановский символ, взятый в форме, например, имени существительного, но «объективирует», минуя «фикцию буквальных реалий слова», предикат, а не сам референт, а, следовательно, ни в каком смысле не именует и, соответственно, не референцирует. Объективирующая и референцирующая предмет сообщения языковая константа трансформировалась в ивановской теории в объективацию предиката, которая ни сам этот предикат, ни предмет не именует и не референцирует.
Во всем сказанном не совсем отчетливо, но все же проступают очертания конвенционального понимания языка, действительно, в определенном смысле свойственного Иванову. Однако, если это и конвенциональность, то конвенциональность особого рода.
Выше мы видели, что тезис о необъектности и необъективируемости символических референтов, для выражения которых неизбежно тем не менее использование, хотя и в особых формах, константных объективирующих потенций языка, сопряжен у Иванова с введением в онтологию референтов («состояний сознания») имманентного модуса восприятия. Следовательно, за этим тезисом стоит не жестко конвенционализирующий язык абсолютный философский дуализм, а монистически окрашенная идея сглаживания в недрах «трансцендентно-имманентной» природы символических референтов «субъект-объектной пропасти».
Понимание субъекта и объекта как «сделанных из одного куска» роднит Иванова, с одной стороны, с известными версиями феноменологии, с другой – с соответствующими религиозно-мистическими традициями. Известно, что идея субъект-объектного сближения порождает в феноменологии своего рода онтологизацию самого языка (Хайдеггер), инициируя введение языковых структур внутрь самой реальности на ее экзистенциальном уровне. А это уже абсолютно иной процесс, нежели описанная выше искажающая объективация или искусственная «дискретизация» реальности под влиянием некритически воспринимаемых и бессознательно онтологизируемых объективирующих потенций языка. Здесь внутрь экзистенциальной реальности «вмонтируются» другие силы языка – его семантические и синтаксические «механизмы».
Иванов мыслил в аналогичном направлении. Не укореняя язык, как мы видели в предыдущем разделе, в абсолютно трансцендентной онтологии, он сроднил язык и символические референты в трансцендентно-имманентной сфере, усматривая основу этой общности в по-особому понимаемых им предикативном акте и принципе семантической контрастности. Насколько и как миф и символические фигуры в целом укоренены в предикативных и семантических процессах языка, настолько и так сам язык сближен с трансцендентно-имманентной природой символических референтов. Насколько и как символические фигуры отдаляются от других сил языка (в частности, от прямого перенесения объективирующей потенции языка на понимание самого референта), настолько и так язык дистанцирован от символических референтов, которые в принципе не поддаются объективации (напомним, что Иванов с того и начал, что принципиально растождествил символ, неизбежно помещаемый в константную языковую позицию субъекта, и имя, самолично, по определению, осуществляющее референцию, то есть ввел презумпцию необъектности и необъективируемости символических референтов). Язык, таким образом, оборачивается у Иванова двуликим Янусом – но именно таково было исходное «задание» символизма: дезавуировать значимость буквального смысла речи, но не разлучить ее при этом с «высшей правдой».