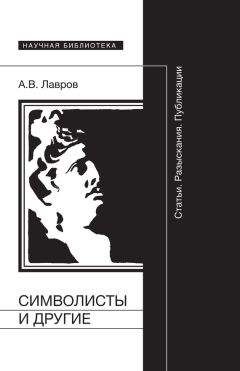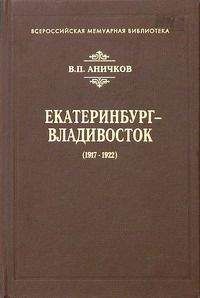Уместно будет, по случаю Ваших и моих соображений о совокупности истекшего века и о перспективах наступающего, почтить память всех деятелей бывших и приветствовать глашатаев начинающих и грядущих возгласом, который заключает поздравительные стихи одного молодого поэта:
Друзья, наступил новый век!
Человек,
Принеси нам бутылку вина…
Слава новому веку!
Слава старому веку!
Господа…
А, в заключение, вот Вам еще картина, которая представит Вам цельное понятие о «положении дел» в критический момент на рубеже между двумя веками. Она произошла совсем неожиданно из плетения рифм, которым занимался я с другом моим Асканием, и участие его и мое распределено в ней в точно равномерных долях.[253] Авось это изложение покажется Вам в достаточной мере vulgatum[254] – не то, что мое предисловие!.. Да я и вообще старался теперь рассуждать с Вами так, чтоб Вам «разжевать и в рот положить».
Ранний метерлинк в ранних российских толкованиях: Иван Коневской
Начало мировой славы Мориса Метерлинка, как известно, ознаменовала в 1890 г. статья Октава Мирбо в газете «Figaro», содержавшая восторженную оценку «Принцессы Мален», первой пьесы никому не известного автора, провозглашенного современным Шекспиром. Год спустя на этот факт было обращено внимание в русской печати. Журнал «Вестник Иностранной Литературы» посвятил изложению содержания «Принцессы Мален», а также появившихся следом за нею одноактных пьес «Непрошенная» («L’intruse», 1891) и «Слепые» («Les aveugles», 1891) десять страниц печатного текста. Было отмечено, что написанная для сцены марионеток «Принцесса Мален» – «ничто иное как страшная сказка», а одноактные пьесы – «по удачному выражению одного критика, мрачные симфонии пессимистического символизма», что во всех пьесах бельгийского автора «психология совершенно отсутствует», и сформулированы общие заключения: «Метерлинк писатель не без таланта с сильным пристрастием к фантастическим ужасам в духе Боделера и Эдгара Поэ. Все его усилия направлены к тому, чтобы нагромоздить как можно больше ужасов так, чтобы у читателя волосы стали дыбом. Порою эти усилия доводят его до той грани, где уже начинается балаган, но спасает его большая колоритность и музыкальность формы».[255]
Почти одновременно с «Вестником Иностранной Литературы» заинтересованное внимание к начинающему драматургу-символисту стал выказывать театральный, музыкальный и художественный журнал «Артист». В анонимном «Иностранном обозрении», помещенном в январском номере за 1892 г., произведения Метерлинка удостоились не менее подробного освещения. «Мы давно должны были, – начинал свой обзор автор, – познакомить читателей с новым, весьма любопытным, явлением в области иностранной драматургии. Мы откладывали свое сообщение, ожидая, что интерес к этому явлению исчезнет, и курьез утратит свою притягательную силу. Но потому ли, что курьез слишком оригинален, или потому, что в солидных сферах драматической литературы царствует затишье, – упомянутая нами новость с каждым днем становится новее и популярнее» – настолько, что новоявленный «бельгийский Шекспир» затмил самых популярных драматургов новейшего времени, Г. Ибсена и А. Стриндберга, «оригинальностью своего дарования».[256] Обозреватель подробно останавливается на последнем из опубликованных к тому времени произведений Метерлинка, одноактной драме «Семь принцесс» («Les sept princesses», 1891), подчеркивая, что выстраиваемые автором драматургические ситуации, подернутые «какой-то таинственной дымкой, дышащей на зрителя ужасом и нервной дрожью», не поддаются однозначной разгадке: «Можно думать, что это – аллегория смерти, хотя слово “смерть” ни разу не произносится в течение пьесы. Может быть, это – идеальное изображение любви в лице Урсулы, умершей с отчаяния в тщетном ожидании милого? Может быть, здесь кроется преступление жестокой ревности шести принцесс к их сестре, предпочтенной принцем? Многим именно и является особенная прелесть в этой тайне, другим драма Метерлинка может показаться простым бредом слишком утонченного, а то и просто расстроенного воображения. Но никто из читателей не станет отрицать своеобразного колорита драмы, немногими чертами внешней обстановки и отрывочными фразами производящей по временам глубокое впечатление».[257] Дав следом столь же подробное изложение драмы «Слепые», критик приходил к выводу о глубокой симптоматичности пессимистической драматургии Метерлинка как проявлении «глубокого недуга, терзающего все силы природы современного человека, – и мысль, и чувство, и воображение»: «Метерлинк наравне с Нитче ‹…› – настоящее знамение нашего времени».[258]
В «Иностранном обозрении», помещенном в следующем номере «Артиста», снова шла речь о Метерлинке; на этот раз излагались «Принцесса Мален» и «Непрошенная», причем отдавалось должное драматургическому мастерству автора: «Нельзя не подивиться силе впечатления, производимого автором, путем самых простых, почти безмолвных сцен».[259] А в приложении к мартовскому номеру того же журнала была напечатана «L’intruse» в переводе Е. Н. Клетновой под заглавием «Втируша».[260] Наконец, год спустя в «Артисте» была опубликована развернутая статья известного литературного и театрального критика И. И. Иванова «Метерлинк и его драмы» (как явствует из текста этой статьи, именно Иванов ранее знакомил читателей с бельгийским драматургом в рубрике «Иностранное обозрение»). В этой статье творчество Метерлинка рассматривалось в самом широком плане – как характернейшее выражение европейского символизма, с его представлением о «тайне» как истинном содержании искусства: «Не идея, а эмоция, не анализ, а чувство, не ясное и определенное представление, а смутное предчувствие».[261] Дарование Метерлинка критик признает неоспоримым, выделяющим его из ряда других представителей новейших поэтических течений («… среди символической литературы именно только драмы Метерлинка представляют интерес – литературный и психологический») и даже допускающим параллели с творчеством Достоевского, сосредоточившего «всю силу своего дарования на раскрытии именно таких драматических моментов, какими вдохновляется Метерлинк»; в его драмах «всегда присутствует известная объединяющая идея», «пред нами несомненно новый и оригинальный способ – воплощать настроения в живых образах».[262]
Статья И. Иванова во многом отразила общую тональность восприятия раннего творчества Метерлинка в русской печати первой половины 1890-х гг. Последняя оказалась в целом гораздо более терпимой к бельгийскому драматургу, чем к другим его западноевропейским собратьям по символистскому движению, не говоря уже об отечественных приверженцах этого направления, неизменно попадавших под ожесточенный критический обстрел или становившихся объектами грубого глумления. Разумеется, звучали голоса, полностью отрицавшие художественную ценность творений Метерлинка, в которых распознавались лишь «дешевые средства оригинальничанья, рассчитанного на то, чтобы поразить чем-то новым, небывалым».[263] При этом от одного автора к другому перекочевывал один и тот же критический тезис: бельгийский драматург не пробуждает эстетические чувства, а лишь травмирует нервную систему читателей и зрителей. Метерлинк, по мнению П. Н. Краснова, пытается вызвать «впечатления суеверного ужаса», достигаемые «сочетанием туманности с грубостью»: «Цель Метерлинка навести на читателя ужас, и с некоторыми слабонервными лицами это ему действительно удается».[264] Особенно часто подобные заключения выносились по поводу первых постановок Метерлинка на русской сцене – «Втируши» на сцене Охотничьего клуба 3 мая 1894 г. и «Тайн души» («Intérieur», 1894) в театре Литературно-артистического кружка 28 ноября 1895 г.[265]
Тем не менее именно Метерлинка выделяли критики-традиционалисты из общего ряда символистов-декадентов; оценивая его произведения, они стремились продемонстрировать свою готовность к восприятию «истинного» символизма и толерантность собственных эстетических воззрений. А. И. Богданович рассматривал Метерлинка как «несомненного символиста», в отличие от многочисленных «неудачных подражателей»: «Первое, что резко отделяет его от русских его коллег, это простота языка, в котором нет ничего вычурного, деланного, безвкусного или фальшивого. Его язык является резкой противоположностью изысканности и утонченности других символистов»; содержание пьес Метерлинка сводится, при отсутствии «внешнего действия», к «чрезвычайно яркому представлению внутреннего мира» людей: «Получается как бы наша жизнь, но очищенная от всех лишних, ненужных правил, действий и декораций ‹…› Цель Метерлинка и состоит в том, чтобы показать эти драгоценные качества души в те исключительные минуты, когда условности рушатся сами собой и на первый план выступает наше сокровенное “я”».[266] А. Г. Горнфельд, рецензировавший первый сборник драм Метерлинка в русском переводе, оказался весьма пристрастен к их автору: «Необходимости в переводе драм Метерлинка на русский язык мы положительно не видим ‹…› знакомить нашего читателя с неопределившимися литературными индивидуальностями, значение которых подлежит еще обсуждению, кажется нам излишним»; но критик все же констатировал в произведениях бельгийского символиста определенные достоинства – оригинальность («Он создал свой жанр, не чуждый искусственности, быть может, жизнеспособный лишь в умелых руках своего творца, но в некоторых своих элементах новый и интересный»), умение «заменить интерес к личностям интересом к действию, к той элементарной трагедии, которую переживают эти абстрактные “общечеловеки”», а также отсутствие в драмах Метерлинка «многих недостатков того литературного течения, к которому он принадлежит: нет исключительного культа формы и тщетного стремления действовать на читателя какими-либо экстравагантными средствами».[267]