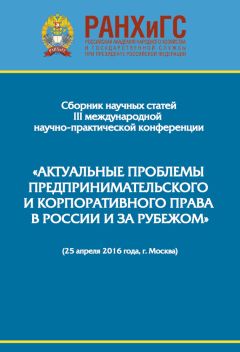Теоретическая предпосылка такого предположения – в вычитываемой из ивановских текстов идее функционального, а в определенном смысле и генетического родства антиномических конструкций с мифологическими высказываниями. Вся поэзия состоит, согласно одной из обостренных ивановских формулировок, исключительно из синтетических суждений (4, 645), [68] миф же как раз и представляет собой, согласно регулярно воспроизводимой Ивановым формуле, синтетическое суждение с подлежащим-символом и глагольным предикатом. Практически во всех случаях приведения этой формулы Иванов добавляет, что цель синтетических мифологических высказываний – вызывать «удивление»: антиномические синтаксические конструкции выполняют и это требование. В одной же из ивановских формулировок этот «удивляющий синтетизм» мифологического высказывания напрямую связан с антиномизмом. Миф, говорит здесь Иванов, эпичен по форме, но трагичен по внутреннему антиномизму (4, 437). Антиномическую синтаксическую конструкцию можно, следовательно, толковать в ивановском смысловом пространстве как редуцированную лингвистическую транскрипцию синтетических мифологических высказываний.
На «внутренне антиномичные» мифологические высказывания Иванов возлагал миссию достижения стратегической цели символизма – знаменования (или, если говорить сухо лингвистически, референцирования) мира «бестелесного, слышного и незримого» (2, 591) [69] чувственно данными и объективированными формами языка. Если антиномическая конструкция действительно выдвигалась Ивановым в качестве «героя» символического поэтического дискурса, то в ней, следовательно, должны были усматриваться и некие собственно лингвистические особенности, которые соответствовали бы особенностям ивановского понимания этой общесимволической цели.
Дело не могло при этом состоять только в том, что сведенные в единую синтаксическую конструкцию антонимы формально-семантически «указывают» на мыслимые в символизме как долженствующие соприкоснуться предельные топографические координаты поэтического мира (небо/земля, верх/низ, жизнь/смерть, личина/лик и т. д.). В лексической способности антонимов к такому формальному «указанию» на предельные грани никаких особенностей собственно символического типа референции нет: это дейктическое свойство антонимов не выходит за рамки обычного – несимволического – понимания референции, и одного его недостаточно для того, чтобы непосредственные сочленения антонимов в разнообразных синтаксических конструкциях могли мыслиться как преображающиеся из набора стандартных поэтических приемов с неотчетливой или незаданной телеологией в специально символическую языковую форму референции. Характерным же нюансом ивановского понимания символического «знаменования» можно, по-видимому, считать принципиальную несубстанциальность символического референта, взятого как в модусе «данности», так и в модусе «заданности». При всей значимости вовлечения в аполлонийскую статичность топографии поэтического мира динамического дионисийского импульса ивановский символизм принципиально не предполагал субстанциальной встречи предельных топографических координат. Да, «ткань завес» между предельными гранями должна в символизме, по Иванову, становиться «сквозною» (2, 358) – «опрозрачниваться» поэтическим языком, однако Ивановым мыслились лишь «сквозящие свидания» светов, а не самих топографически противопоставляемых светил. То, что долженствует знаменовать символическому стиху, не только изначально «бестелесно» и «незримо», но и должно, по Иванову, оставаться таковым и при его символическом референцировании. Общесимволическая установка на «вещей обличение невидимых» толковалась Ивановым принципиально не субстанциально: не в смысле «придать невидимому облик» (опредметить беспредметное), т. е. не в смысле обретения, нахождения или создания контурно-отчетливого образа или прямо «лика» вещей невидимых, но в смысле поиска способов для того, чтобы знаменовать символический референт вопреки невозможности обрести его лик (облик, образ). Если А. Белый ждал от символического стиха дарования облика «вещам невидимым», будучи с оговорками, но готов, например, видеть за метафорическим сочетанием «белый рог месяца» образ (почти лик) некоего «тайноскрытого» для нас небесного животного, [70] то для Иванова «каждый лик, глядящий с облаков, лишь марево зеркальности воздушной» (3, 564).
При радикальном лингвистическом уплотнении этой ивановской идеи она предстает в виде парадоксального, на первый взгляд, тезиса, что для достижения референции «невидимого» и «бестелесного» символический стих должен отказаться от акта именования, поскольку последний предполагает предметный или опредмечиваемый именованием референт (Душа… /Единым и Вселиким – /Без имени – полна! – 1, 749). Разумеется, содержание этой идеи не следует понимать лингвистически формально: речь идет о жертвовании, конечно, не именами как грамматическими формами (такое понимание бессмысленно), но – о жертвовании актом именования, т. е. речевым действием, референцирующим через именование. К идее жертвования именованием ведут смысловые тропы от многих теоретических тем Иванова: о трагической ошибке Ницше, вызвавшего из дионисийского КАК фиктивное ЧТО с произвольно определенными чертами (1, 723, 720), об опосредованном характере символического знаменования (референцировании ЧТО через КАК), о сущности трагедии, о кризисе явления, а с ним и внутренних форм привычных имен зримого мира, и о соответственном движении символического стиха от реального к реальнейшему, при котором стих должен, по Иванову, постепенно высвобождать свою знаменующую энергию «из граней данного» (2, 611) и перенаправлять ее из мира чувственно или ментально конкретных языковых образов и имен в мир «несказанного» и «невидимого» (не имеющего облика и имени).
Имплицитно содержится идея отказа от акта именования и в самой ивановской формуле мифа, которая тем и выделялась на фоне тогдашних многочисленных толкований мифа, что в ней не предполагалось акта именования – и не предполагалось принципиально: в позицию субъекта синтетического мифологического суждения в ней помещается символ, символ же у Иванова—подчеркнуто не имя референта (символы наши– не имена [71] ), а, если воспользоваться стандартной лингвистической терминологией, – предикат (Тайна, о братья, нежна: знаменуйте же Тайное Розой – 3, 30).
Сколь бы ни были настойчивы попытки переубедить в этом пункте Иванова, он (за одним, и то, по-видимому, формальным, исключением) так и не ввел акт именования в синтаксическую структуру лингвистической пра-формы мифа, а значит – не мыслил акта именования и в мифологическом пике символического стиха. В ивановской поэзии имена, которые претендовали бы прямо именовать маркированные символические «референты», и прежде всего, имена собственные, чаще всего приносились в ритуальную жертву, что и было, по всей видимости, причиной сыпавшихся на Иванова со всех сторон упреков в уклончивости, тактике замалчивания и даже лицемерии. Так, в ходе диалога-тяжбы Иванова с С. Н. Булгаковым о мифе сложилась чрезвычайно показательная для данного контекста ситуация. Если в ивановском мифе в позицию субъекта помещается символ, т. е. принципиально – не имя, то Булгаков пишет в «Свете невечернем»: содержание мифа «всегда конкретно, речь идет в нем не о боге вообще и человеке вообще, но об определенной форме или случае определенного богоявления». И далее делает показательный для нас вывод: «Подлежащее мифа, его субъект может быть обозначен только „собственным“, а не „нарицательным“ именем» . [72] Аналогичный упрек делался Иванову и А. Белым. Откликаясь на ивановские мысли о драме и мистерии. Белый пишет: «…мистерия – богослужение; какому же богу будут служить в театре: Аполлону, Дионису? Помилуй Бог, какие шутки! Аполлон, Дионис – художественные символы и только: а если это символы религиозные, дайте нам открытое имя символизирующего (так в издании. – Л. Г) Бога. Кто «Дионис»? – Христос, Магомет, Будда? Или сам Сатана?» . [73]
Белый разглядел за ивановской языковой многоликостью бога – козла, быка, барса, змеи, лозы, рыбы – идею безликости и безымянности символического референта, но не принял, расценив ее как «ужасающую даль старины», заревевшую безликим «мраком на нас». [74] Да, лик, по Белому, может быть не дан, но он (по известной формуле) задан, финал символического пути – обретение лика, отказ от такого финала – провал в дионисийскую бездну. Иванов, в свою очередь, усматривал в поисках «ликов» нечто вроде лингвистического пантеизма: Белый, говорил он, «суеверно» стремится приурочить символические языковые обозначения «вещей невидимых» к эмпирически объективированному «носителю», «к обманчивым, мимо бегущим теням» (4, 621).