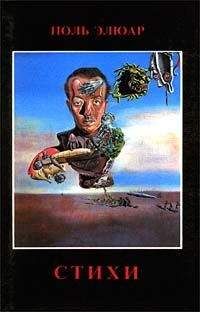И потому, что жизнь продолжалась вопреки разгулу смерти, страшная правда сорок второго года под пером Элюара пробуждала бесстрашие. Не придавливала, а распрямляла. «Последняя ночь» – озаглавил Элюар поэму, замыкавшую книгу, и это название не было однозначным: от строфы к строфе обнаруживались все новые его грани и как бы наращивался запас взрывной силы. Последняя ночь – это не сколько часов перед расстрелом заключенного, сумевшего даже смерть превратить в подвиг, в героический завет оставшимся на воле. Последняя ночь – это и небытие, которое вскоре неминуемо поглотит его палачей: те, кто придет похоронить казненного товарища, вместе с его «окровавлен ной плотью» похоронят и «черное небо», «стряхнут прах немощных убийц».
Последняя ночь, наконец, – это сумерки толпы бедняков, что долго «свой хлеб у ручья собирали» и «друг на друга глядели сквозь призму своей задавленности». Но однажды они уверовали в себя и «заговорили о надежде, огромной, как ладонь», занявшись подсчетом, «сколько будет осенних листьев, если вместе сложить их, сколько в море спокойном поднимется волн, если ветер задует, сколько будет грядущей силы, если каждый протянет руку соседу». И в финале, который стягивает воедино все те нити, что тянутся от каждой из строф, монтирующихся друг за другом вразнобой, без явной логической связи, Элюар слагает отходную всем на свете долгим непроглядным ночам с их привидениями, заброшенностью, страхами:
Мы охапками темень швыряем в костер
Мы срываем засовы ржавой неправды
Люди грядут которые больше не будут бояться себя
Ибо верят они в людей
Ибо сгинут враги с человечьим лицом.
И это написано в самом начале 1942 г., когда над всей Европой от Пиренеев до Волги повисла ночь со свастикой вместо луны! А Элюар уже прозревал рассвет – пусть еще неблизкий. Он преподавал науку ненависти и лечил надеждой.
В огромном, накопленном за века наследии французской поэзии найдется не много произведений, которые могли бы встать вровень с подпольной лирикой Элюара по силе своего «магического» воздействия на тех, кому она предназначалась. Судьба поразительной «Свободы», открывавшей книгу «Поэзия и Правда 1942», невольно вызывает в памяти историю «Марсельезы». Подобно бессмертному маршу саперного капитана Руже де Лиля, она вскоре после своего рождения с быстротой народной молвы облетела Францию, сделалась патриотической клятвой, была пронесена подпольщиками и партизанами, словно боевое знамя, сквозь годы борьбы с фашизмом. Да и поныне, уже будучи положена на музыку, переведена на множество языков, включена в школьные хрестоматии, «Свобода» продолжает свой героический путь, начатый в тот звездный час, когда, кажется, сам гений Сопротивления осенил ее создателя, помог высказать то, чем жил, чем дышал каждый из соотечественников:
На школьных моих тетрадках
На парте и на деревьях
На песке на снегу
Имя твое пишу
На всех страницах прочтенных
На нетронутых чистых страницах
Камень кровь ли бумага пепел
Имя твое пишу
………………………………………
На безнадежной разлуке
На одиночестве голом
На ступенях лестницы смерти
Имя твое пишу
На обретенном здоровье
На опасности преодоленной
На безоглядной надежде
Имя твое пишу
И властью единого слова
Я заново жить начинаю
Я рожден чтобы встретить тебя
Чтобы имя твое назвать
Слово Liberté, которым Элюар испещряет все, что ему дорого, – отнюдь не непривычное для французского стиха, издавна бывшего верным спутником крестьянских мятежей, революций, боев на парижских баррикадах.
Когда-то, в канун 1789 года, Андре Шенье вынес это слово в заголовок своей буколики-диалога вольного козопаса и пастуха-раба; вслед за ним многие безвестные и всемирно знаменитые лирики брались за перо, чтобы прославить в веках имя отечественной заступницы Свободы. В честь нее слагали гимны и зарифмованные рассуждения, ей посвящали оды и пылкие признания. В стихотворческой традиции XVIII–XIX столетий обращение к свободе требовало торжественного классического парения или страстных романтических восторгов, а представление о ней чаще всего материализовалось в фигуре прекрасной девы-воительницы, будь то – во времена якобинцев Мари-Жозефа Шенье и Дави да – величавая богиня в античном облачении или, позднее, простонародная обитательница парижских предместий, воспетая Барбье в «Собачьем пире» и запечатленная на полотне Делакруа «Свобода на баррикадах 1830 года».
Подобные же аллегории нередко возникали и в поэзии Сопротивления – то как плененная родина-мать, взывающая о помощи к своим сыновьям (Арагон), то как Пречистая Дева, Богоматерь, воплощение страдающей непорочности (П.-Ж. Жув, П. Эмманюэль), то как все та же неистовая и желанная возлюбленная мятежных парижан, из века в век вдохновлявшая их на штурм тиранических твердынь (А. Френо).
В «Свободе» Элюара нет ни пышного славословия, ни пространных олицетворений. Ворожащее заклинание, она соткана из прямых безыскусных обозначений вещей вполне привычных и совершенно неожиданно поставленных рядом. Их сцепление друг с другом будто вовсе произвольно, зиждется на отработанной еще ранним Элюаром технике бесконечного потока прихотливых ассоциаций, которые проплыва ют в сознании пишущего и перенесены на бумагу вроде бы без отбора, рассудочной выверки. Непосредственность такого рода «инвентария», включающего все, на чем невзначай остановился глаз, что внезапно мелькнуло в уме, подверну лось под перо, и прежде очищала исповедь влюбленного Элюара от малейшего налета чего-то заранее заданного, умозрительного, сообщая ей редкостную доверительность. Теперь он поверяет Свободе, возлюбленной своих соотечественников, самые заветные помыслы с такой же нежной искренностью, с какой раньше обращался к любимой (кстати, стихотворение и было сначала задумано как посвященное Нуш, чье имя должно было быть названо в самой последней строке[71]).
Хаотичность подобного нагнетания вразброс лишь кажущаяся, поскольку она-то и несет в себе, внушает мысль о всепроникающей, одухотворяющей все бытие – от простейших предметов каждодневного обихода до отвлеченных категорий разума – страсти, с детских лет овладевшей умом и сердцем человека. «Одна-единственная мысль» – так была озаглавлена «Свобода» в первой публикации, и эта сосредоточенность на одном, самом насущном, при всей внешней необязательности каждого отдельного перехода (скажем, от «лоскутков лазури» к «мельничным крыльям теней», от «пустой ракушки кровати» к «собаке ласковой лакомке»), выражена без всяких деклараций, самим построением. И прежде всего – мастерски найденной Элюаром перекличкой общего композиционного хода со структурой отдельной строфы – элементарное перечисление, стянутое концовкой в тугой узел. Виртуозный двадцатикратный синтаксический повтор целого четверостишья, который усилен еще и буквальным повтором последней его строки, обрывающей фразу на полуслове, всякий раз все наращивает наше ожидание заключительного слова-разрядки. «Неупорядоченность» в частностях получает полновесную смысловую нагрузку; из кирпичиков, будто случайно оказавшихся под рукой, складывается здание, являющее собой высший поэтический по рядок.
Под пером Элюара гражданская лирика, спустившись с ораторской трибуны и сделавшись тихой и чистой исповедью, обретает такую проникновенность, какой она во Франции, пожалуй, раньше не знала никогда. Чудо этого преображения в том, что предельная интимность высказывания как раз и служит здесь предпосылкой его универсальности. Хвала Свободе, из громогласно-меднотрубной став совсем при глушенной, на грани шепота, не только не оказалась камер ной, а, напротив, получила подлинную общезначимость. Богиня Свободы у певцов демократии XIX века была кумиром, которому поклонялись, чем-то внеличным, искренне почитаемым и вместе с тем вознесенным над каждым из смертных. Для Элюара она не божество, а проникшая в кровь и плоть человека стихия, растворенная в любой клеточке его личности, посылающая свои позывные из любого уголка вселенной. Оттого-то она чрезвычайно близка всем и каждому. Элюар говорит исключительно от своего имени, но его слова складываются в исповедание заветной веры всех, дающее возможность «присвоить» это «верую», сделать своим собственным, выстраданным, достоянием многих и каждого в отдельности. Лирическое признание, которое в словесности Нового времени, как правило, остается переживанием одного, отличного от меня и всех прочих человека, рассказом о том, что испытал кто-то другой, кто может быть мне чужд или понятен, но кто почти всегда не-Я (именно в этой «остраненности» и коренятся истоки по преимуществу книжного склада западноевропейской лирики с Возрождения), в «Свободе» обретает былой пафос древней хоровой лирики. Здесь Я сугубо мое, личное, неповторимое и – одновременно – носитель коллективного сознания. Недаром композитор Пуленк, положивший слова Элюара на музыку, счел нужным сочинить кантату в духе старинных литаний для большого хора a capella.