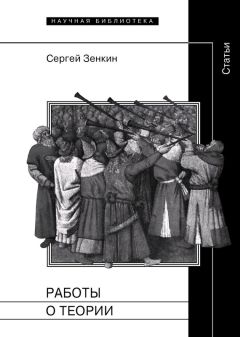Мир текста или действия образуется их «неявными референциями» (с. 196), он состоит из того, что они делают возможным, хоть и необязательно наличным, – в отличие от явных референций речевого акта, отсылающего к вещам и фактам, которые можно указать in actu. При таком понимании мир имеет феноменологическую структуру, образуется из человеческих проектов; из всех рикёровских идей о структуре действия это самая феноменологическая. В статье «Герменевтическая функция дистанцирования» (1975) Рикёр прямо цитирует хайдеггеровское «Бытие и время» и заимствует из него «мысль о “проектировании самых собственных наших возможностей”, применяя ее к теории текста. Действительно, в тексте подлежит интерпретации некоторое предложение мира, мира, где я мог бы жить и проектировать в нем какую-то из самых собственных моих возможностей» (с. 114–115). Поэтому, заключает Рикёр, задача интерпретатора – не столько познать чью-то душевную жизнь (напомним, что автор «умер» и преодолен своим собственным текстом), сколько описать «предлагаемый мир», сравнимый с гуссерлевским Lebenswelt и проектируемый в тексте или действии[32]. Нам предлагается «мыслить смысл текста как исходящее из него требование – побуждение по-иному смотреть на вещи» (с. 208), – и сходным образом каждый человеческий поступок проектирует особый мир, так же как Сартр объяснял феноменологическую диалектику индивидуального и общего: «Выбирая себя, я выбираю человека вообще»[33]. Например – если продолжить мысль Рикёра, – выплачивая долг наследникам своего умершего кредитора, не знавшим о существовании этого долга (излюбленный кантовский пример нравственного поведения), человек «предлагает» мир, где от каждого должно ожидать честности; а другие люди, сооружая газовые камеры в концентрационных лагерях, тем самым «предлагают» другой мир, где жизни людей можно уничтожать по простому административному решению, под тем предлогом, что они бесполезны для государства. Не только когда мы следуем кантовскому категорическому императиву – любыми своими поступками мы неявным образом «предлагаем мир», а следовательно и отвечаем за его будущую конфигурацию.
Любопытно, что Рикёр упоминает о некоторых особенных событиях (социальных действиях), обладающих «всевременной релевантностью»; как позволяют предположить другие его произведения, он имеет здесь в виду «акты освобождения», такие как страсти Христовы, избавляющие человечество от первородного греха. В статье «Манифестация и прокламация» (1974) он писал, что уже в Ветхом завете мифические соответствия, свойственные режиму «манифестации» сакрального, уступают место «герменевтике прокламации», подвергая мифические события аллегорической интерпретации: «Космогонические мифы […] приобретают новую функцию; отныне они обозначают “начало” истории, сквозной мотив которой – история освобождения»[34]; это уже готовые тексты, и при аллегорическом чтении они превращаются, по выражению Рикёра, в «предельные выражения»[35]. Свой смысл они проецируют через много поколений и в конце концов превращаются в чистый смысл[36].
Четвертый аргумент. Подобно тексту, «значение человеческого действия также адресовано бесконечному ряду возможных “читателей”. Судьями выступают не современники, а, как говорил Гегель вслед за Шиллером, сама история» (с. 197). Этот последний тезис наименее подробно разработан у Рикёра, занимая всего несколько строк, как будто философу казалось слишком очевидным, что смысл события всегда «открыт для такого рода практической интерпретации через текущий праксис» (с. 197). Однако эта мысль заслуживает более внимательного анализа. Прежде всего, в этом пункте выясняется, какую именно «общественную» или «гуманитарную» науку имел в виду Рикёр, когда писал в начале своей статьи, что «понятие текста служит хорошей парадигмой для объекта так называемых общественных наук», а текстуальная интерпретация – «парадигмой для интерпретации вообще в области гуманитарных наук» (p. 197). Жоан Мишель определяет такую подразумеваемую дисциплину как «социотеорию» в противоположность «микросоциологии», изучающей взаимодействия «лицом к лицу», а не «великие» события, выделенные из своего непосредственно-практического контекста[37]. Сам Рикёр пользуется другим, более простым термином – история. Слово «история» много раз встречается в его тексте, тогда как «социология» практически отсутствует. Именно история, а не социология «архивирует» события прошлого и подвергает их ретроспективной интерпретации. Однако – и это второе обстоятельство, которое следует отметить, – слово «история» двузначно. Оно может отсылать к дискурсу, рассказывающему и анализирующему события прошлого (historia rerum gestarum), но может означать и сами эти события (res gestae). В гегелевской философии абсолютного духа, на которую ссылается французский философ[38], оба значения склонны совпадать, но реально Рикёр, говоря о «практической интерпретации через текущий праксис», все же отдает предпочтение второму значению. По его мысли, не (только) профессиональные историки, но (также и) обычные люди «практически интерпретируют» чужие действия посредством своего собственного социального действия; в этом смысле их можно назвать «учениками-историками»[39].
Но как же понимать эту «практическую интерпретацию»? Здесь Рикёр оказывается в точке бифуркации. Встающий перед ним выбор до некоторой степени опять-таки соответствует семантической двойственности слова – на сей раз слова «действие»: во французском, как и в русском языке оно может означать ряд поступков, целую «историю» (например, в выражении «драматическое действие»), а может и отдельный поступок (как в выражении «ответное действие»). Первое, холистическое понимание более присуще герменевтической традиции, стремящейся найти предсуществующий смысл целостного поступка/высказывания; второе, аналитическое понимание скорее свойственно структурной семиотике, которая строит смысл из отдельных элементов и занимается не только нахождением, но и созданием, приданием смысла[40].
Последовательность осмысленных поступков образует нарратив, и в таком понимании социальное действие стало предметом рикёровской философии нарратива. В книге «Время и рассказ» Рикёр сделал попытку включить идею практической интерпретации или «практического понимания» (compréhension pratique)[41] в теорию нарративной рациональности; этот концептуальный сдвиг уже предвещали некоторые его статьи, собранные в книге «От текста к действию», например статья «Практический разум» (1979). Согласно такой теории, социальная практика может рассматриваться как «мимесис I» – нарративная деятельность, происходящая в самих поступках, до и независимо от всякой их вербализации. Логично и симптоматично, что одновременно из рикёровских размышлений исчезает идея «парадигмы текста», уступая место новой парадигме – парадигме рассказа. По той же самой причине в поздних трудах Рикёра перестает работать и оппозиция «устная речь / письменный текст»: действительно, нарративный сюжет может основываться как на повседневных, так и на мифических событиях, отсылая в равной мере и к дистантно-«текстуальным», и к непосредственно-«речевым» отношениям. По той же причине история больше не может занимать привилегированное место среди дисциплин, интерпретирующих социальное действие, – эту функцию могут не хуже нее исполнять социология и психология.
Однако из рикёровской гипотезы о тексте как модели социального действия можно вывести и другой путь рассуждения, другую идею исторической интерпретации; как мы увидим, эта идея обоснована интуициями самого Рикёра. Следуя по этому пути, мы рассматриваем каждый отдельно взятый человеческий поступок как смысловое единство, отделяющееся от своего исходного контекста и подвергаемое новым интерпретациям, каковые именно и образуют исторический процесс. Тогда интерпретация состоит в присвоении новых значений действиям (посредством практических реакций, но не только их), во включении этих действий в новые семантические структуры.
Итак, в начале 1970-х годов, перейдя от герменевтики символов к герменевтике текстов[42], Рикёр оказался на перепутье, перед необходимостью выбирать между нарративным и семиотическим подходами к текстам/действиям. В то время как нарративная логика имеет дело с однородными объектами (событиями), располагающимися на одном уровне темпорально-синтагматической развертки и наделенными имманентным смыслом, – семиотическая теория, вдохновляющаяся идеями Соссюра, постулирует трансцендентное отношение между двумя уровнями: уровнем чувственно ощутимого означающего и уровнем концептуального означаемого. В семиотически понимаемом историческом процессе взаимодействуют и сменяют друг друга два рода единиц; в то время как нарративная схема подобна прямой линии, семиотический процесс идет зигзагом.