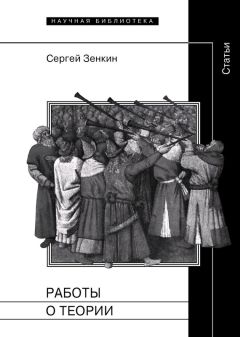От результатов социальной концептуализации, социального осмысления зависит не только ход этого процесса, но даже и само историческое или не-историческое качество тех или иных событий.
Возьмем в качестве примера типичную ситуацию, которая с печальной повторяемостью возникает в расово-этнических отношениях. Предположим, черный парень оскорбил или подверг сексуальным преследованиям белую женщину. («Черный» и «белый» в данном случае – условные термины, которые могут варьироваться в разных обществах: скажем, в современной России «черный» можно было бы заменить словом «кавказец».) Как будут развиваться дальнейшие события? В толерантном многорасовом обществе этот человек будет морально осужден, а возможно и наказан по суду, но точно так же, как если бы оба участника инцидента принадлежали к одной группе; своим поступком он нарушил лишь обычную мораль и/или уголовное право. В обществе разделенном и озабоченном этническими различиями тот же самый акт будет рассматриваться как нарушение расовых правил, он может повлечь за собой суд Линча, бунт, межобщинные столкновения, порой с самыми трагическими последствиями. С научной точки зрения, его дисциплинарная квалификация окажется тоже различной: в первом случае им будет заниматься социология как типичным, статистически усредненным фактом, как обычным правонарушением (по-французски это называется un fait divers); во втором случае он будет занесен в хронику и станет предметом исторического исследования как единичное событие с необратимыми последствиями для социально-политического развития, как действие, очевидным образом превосходящее свою непосредственную межличностную «ситуацию» и обретающее общую «важность», поскольку оно «адресовано» – как вызов – не только жертве, но и целой общине.
Существенно, что такая «историзация» заурядного правонарушения становится возможной благодаря его социальной интерпретации, происходящей до и после самого происшествия (как выражался Рикёр в книге «Время и рассказ», en amont и en aval, буквально «вверх и вниз по течению» событий). Во-первых, в расистском обществе черный парень не может «просто» желать белую женщину, он неизбежно видит в ней запретный сексуальный объект, и его поведение с самого начала обладает значением расовой трансгрессии. А во-вторых, его правонарушение повлечет за собой социальную конфронтацию лишь в том случае, если в данном обществе широко распространены расистские стереотипы, применяемые для интерпретации отдельных инцидентов. Социальная интерпретация предшествует социальному действию (в нашем примере – оскорблению личности) и следует за ним, наделяя его моральным, а возможно и историческим смыслом. Иными словами, реальное значение осмысленного действия зависит не только от сознательных намерений агента, но и от социальных конвенций и пресуппозиций, которые все вместе участвуют в создании «мира, предлагаемого» данным действием. Отсюда вытекает моральный вывод: мы все ответственны за, скажем, расовую или этническую преступность – не обязательно за то, что она фактически имеет место, но за ее социальную, то есть именно «расовую» или «этническую» квалификацию, поскольку все мы, будучи членами общества, несем свою долю ответственности за то, как в нем принято мыслить и интерпретировать факты[43].
Вернемся теперь к исторической науке: как ей изучать такого рода процессы социальной интерпретации? Рикёр в книге «Память, история, забвение» (2000) различает взгляд на события с точки зрения «обычного человека» и «историка», пользуясь оппозицией память/история. История, показывает он, не может совпадать с памятью, они действуют по-разному и имеют различные предметы, даже когда, казалось бы, занимаются одними и теми же «историческими событиями». В исторических исследованиях «память архивирована, документирована. Ее объект перестал быть воспоминанием в собственном смысле, как удерживаемый по отношению к сознанию в настоящем в состоянии непрерывности и присвоения»[44]. Как следствие, «многие события, признаваемые историческими, никогда не были чьими-либо воспоминаниями»[45]. Но хотя память и история – два разных способа мыслить о прошлом, в обоих случаях перед нами не практические, а ментальные операции, которые невозможно непосредственно наблюдать.
Поскольку мы пытаемся отдать себе отчет в исторических процессах, нам приходится принимать во внимание не только собственно последовательность событий, но и их интенции и мотивации – в терминах Аристотеля, не только материальные и действующие, но также и формальные и телеологические причины. Последние имеют место в сознании социальных агентов, а потому являются «невидимыми» – особенно если мы имеем дело с «темными», неизвестными историческими агентами, оставляющими по себе мало документальных следов (а современная историография все более интересуется такими людьми). Их намерения приходится реконструировать, исходя из общих структур мышления, которые мы «вменяем» конкретным агентам. Таким образом, герменевтика исторического действия требует челночного движения между общими структурами сознания и конкретными практическими действиями, между означаемым и означающим.
В терминах самого Рикёра такое возвратно-поступательное движение ума можно описать через диалектику объяснения и понимания (которая, кстати, тоже практически исчезает из его поздних работ вместе с гипотезой о «действии как тексте»). Здесь не место анализировать подробно эту важнейшую проблему современной эпистемологии, но следует выделить один ее аспект, который был особенно важен для Рикёра в 1970-е годы. Пересматривая дильтеевское определение двух категорий, французский философ отмечает, что в современных гуманитарных науках «объяснение» не может более означать приписывание событию изолированных, независимых друг от друга «причин»: при структурном анализе общественной жизни мы имеем дело с системной казуальностью, когда отдельные действия и события определяются целостной структурой системы[46]. В этом смысле объяснить событие – значит описать формальные отношения между «пустыми» элементами системы (например, чтобы объяснить чей-то брак в традиционном обществе, надо вписать его в структуру принятой в данном обществе системы родства); а «понять» то же самое событие означает уже не проникнуть силой вчувствования во внутреннюю жизнь агента, но скорее охарактеризовать его «предлагаемый мир», соотносящийся с ментальными структурами данной культуры[47]. Как следствие, Рикёр по-новому определяет и соотношение между объяснением и пониманием, выдвигая свой знаменитый принцип: «больше объяснять, чтобы лучше понимать», expliquer plus pour comprendre mieux, то есть мы объясняем внутрисистемные отношения для того, чтобы понять концептуальный «предлагаемый мир», имплицируемый и проектируемый конкретным действием. Рикёр высоко ценил Георга Хенрика фон Вригта, показавшего, что для объяснения системы необходимо привести ее в движение некоторым экспериментальным жестом, который уже нельзя «объяснить», а можно только «понять», интерпретировать исходя из намерений экспериментатора[48]. Вместе с тем фон Вригт подчеркивал, что «на системы, изучаемые в общественных науках, как правило, не могут оказывать воздействие внешние агенты. Зато на них могут оказывать воздействие агенты внутренние»[49], – а значит, понимание событий, вытекающих из таких систем, совпадает с пониманием мотивов агента, заложенных в структуре системы.
Рикёр диалектизировал соотношение между объяснением и пониманием: для него это не взаимно исключительные классификационные термины, а сменяющие друг друга моменты в нескончаемом процессе интерпретации[50]. При этом следует подчеркнуть одно обстоятельство, которое вытекает из его «текстуальной» гипотезы, но не сводимо к нарративной логике его поздних трудов: дело в том, что тот же самый процесс происходит не только при методическом научном познании, но и при спонтанном социальном действии – не только историческая мысль, но и сам исторический процесс развивается как непрерывная самоинтерпретация, в ходе которой «понимаемыми» поступками создаются «объяснимые» структуры и наоборот. История есть аутогерменевтика, самопонимание, но вместе с тем и самоописание[51].
Чтобы доказать этот тезис, мы в заключение укажем две специфические области такого обмена, два предельных случая, уже открытых и описанных другими выдающимися теоретиками.
Первый случай можно было бы обозначить как поведение по удаленному образцу. В 1970-х годах Юрий Лотман обосновал возможность научной дисциплины, которую он назвал «поэтикой бытового поведения» и которая в дальнейшем повлияла не некоторые теоретические идеи англосаксонского «нового историзма»[52]. Из исследований Лотмана явствует, что не только повседневные манеры поведения (в чем нас давно убедила интеракционистская психология и социология) можно описывать как исполнение некоторой «роли», заложенной в наших навыках социальной жизни и адаптируемой к той или иной ситуации; существуют также специфические способы социально-исторического поведения – «героическое», «революционное» и т. д., – которые в некоторых социальных группах (таких как русское дворянство XVIII–XIX веков) подражают литературным или театральным образцам и в этом смысле образуют предмет настоящей «поэтики». Их специфика заключается в удаленном характере образцов для подражания: практикующие их люди следуют примеру не своего окружения, как более или менее поступают все, но примеру «трансцендентных» лиц, таких как литературные или драматические персонажи. Эта удаленность образцов делает очевидным смысловой обмен между поступками и структурами: первые непосредственно осуществляются в реальном общественном мире (иногда это в высшей степени серьезные поступки, такие как рассмотренное Лотманом самоубийство Радищева, подражающее трагическим сценам в театре), последние же пребывают в фикциональном мире художественных произведений. Из их онтологической разделенности следует дискретно-диалектический характер взаимодействия между ними. Поведение по удаленному образцу имеет место не только в «бытовых» ситуациях, но и в политических событиях (Французская революция подражает Римской республике, и т. п.), в религиозном подвижничестве («подражание Христу») и т. д. Важно подчеркнуть, что такое поведение трудно истолковать в рамках чисто нарративной логики: конечно, жизнь Христа – это нарратив, и нарративом может быть также жизнь христианского монаха, однако вместе они не образуют единого нарратива; между ними есть онтологический, вернее семиотический разрыв, который заполняется и опосредуется мимесисом семантических структур.