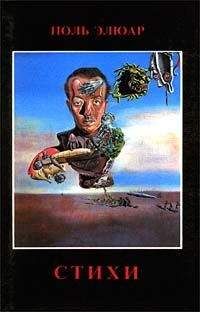Лишь однажды удалось Жуву, самому «бодлеровскому» из французских лириков XX в. по мучительной игре своих взаимоподогревающих, взаимопогашающих, взаимоперетекающих страстей, всерьез разомкнуть круг его внутренних терзаний, настолько непохожих на лучезарные грезы влюбленного Элюара, что разница сделала двух этих певцов любви прямо противоположными друг другу. Очередная война повлекла за собой, однако, встречу крайне далеких во всем мастеров еще раз – в духовном противостоянии катастрофе. Из Швейцарии, куда уже немолодой Жув вновь уехал после поражения Франции в 1940 г., голос его прозвучал непривычно – с граждански-патриотическим пылом и крепостью. «Поэзия ничем не ограничена, – писал он тогда. – Почему же ей не проникнуться национальной трагедией и не выразить ее… Борьба поэзии против катастрофы… – это борьба за незыблемые ценности, прежде всего за само существование и продолжение нации и ее языка, далее – за идею нации, а для нас, французов, это Свобода». Среди высших достижений французской патриотической лирики тех лет, в одном ряду с элюаровской «Свободой», была ода Жува в честь трех цветного государственного знамени его родины:
Тебя я вижу вновь натянутым, как парус,
Широкий щедрый шелк без складок и морщин, –
Три яруса твоих, и каждый ярус – ярость:
Сладчайшее из чувств, глубокое, как гимн.
Взывавший к сердцу цвет был красным – нет, вернее,
Увядшим розовым – не розы лепестком,
А несколько иным – тоскливей, лиловее,
Таким, как сквозь века загубленная кровь
Марата. Белый цвет чуть видной желтизной,
Патиной времени с поверхности картины
И смерти кротостью
Закатной полосы смягчал багряный зной.
А синий жёсток был, как очи высоты,
Как непроглядность сфер, в плену держащих Бога…
О, беспощадный цвет вдоль древка боевого,
О, неба синева бездонной чистоты!
Но главным был Глагол: тысячеустым словом
Роптала и звала, напутствовала ткань,
Поникшему в борьбе приказывала – встань!
Шептала, как любовь, как злоба, проклинала.
Из золоченых букв, своим смущенных блеском,
Ковался лемех слов, которым власть дана
Вздымать пласты земли, – и содрогалась жалость
От боли, что земля претерпевать должна.
И в выкриках мужчин, и в лепете детей –
Ты, огненный Глагол, начало всех Историй,
Сжигающий дотла оплоты и устои,
Чтоб прах развеять их над ржавчиной цепей.
Честь, выполнив свой долг, попрала муки, страхи…
Великих жертв призыв, пронизывая твердь,
Взмывает с алтаря кровавой, липкой плахи,
И знамя говорит: Свобода или Смерть.
Среди певцов французского Сопротивления Жув почитался как патриарх того мощного отряда стихотворцев-католиков, чье христианство обернулось воинствующей защитой заповедей милосердия против попрания захватчиками всех святынь человеческих и божеских. И благословением оружия справедливых мстителей, спасавших страну от позора порабощенности. В ту пору из всех святых церковного календаря Жуву, как и многим его соотечественникам-единоверцам, ближе других был рыцарь Георгий, копьем сразивший дракона, а Богоматери всех страждущих и скорбящих он поклонялся с тем же рвением, что и Марианне – деве-вдохновительнице республиканского вольнолюбия и мятежного повстанчества.
Ручная работа
Пьер Реверди
Успевший еще к исходу Первой мировой войны составить себе доброе имя в авангардистских кружках Парижа, Пьер Реверди (1889–1960), подобно Максу Жакобу, вскоре сбежал от надвигавшейся славы, которой молодежь следующего – элюаровского – поколения готовилась увенчать этого дерзкого экспериментатора с повадкой старинных умельцев-ремесленников, младшего друга Аполлинера, Брака, Пикассо. С 1923 г. он навсегда поселился в укромной деревушке близ монастырской обители. На сей раз упрямое «пустынножительство» вызывалось, помимо побуждений вероисповедного толка, властной потребностью потомка кустарей с их несуетно-патриархальным житейским укладом и духовным здоровьем в том, чтобы спокойно сосредоточиться на собственном заветном труде, отстранившись от столичной «ярмарки тщеславия». Далекая от махровой почвенной оголтелости, однако непреклонная за щита добротных корневых ценностей, обеспечиваемых ручной работой, независимым размышлением и близостью к земле, – стержневое умонастроение Реверди, которого больно ранили сумятица нравов и душевно полая громада промышленно-политиканской цивилизации XX в. на Западе. В грозный исторический час, когда исчадие всего самого в ней смрадного и свирепого обрушилось на Францию гитлеровским нашествием, эта приверженность Реверди к простым нетленным устоям помогла ему в одиноком самозаточении, вопреки ужасу перед кошмарами разгрома, прийти вместе с многими своими соотечественниками к нравственному сопротивленчеству, набухающему праведным гневом и жаждой освободительного дела.
Охота начата в испуге бьются крылья
Забота палачей все сделать втихомолку
И у тебя в груди сплошная глыба льда
Прозрачная как небосвод в июне
В твоих глазах опавшая листва
И списки красные казненных накануне
Вдоль берега гуляет полумрак
Закат зловеще липнет к парапету
Ни огонька в глухих провалах окон
И чернота густая растеклась
Пьер Реверди. Рисунок Хуана Гриса. 1919
Как кровь
И затопила город
Тревожный трепет оскверненных крыльев
Лишенных тупо
Права на полет
Бездушный ржавый скрежет смерти
Потом покой
Рука в перчатке глины
Рывок последний сердца
Последний вздох судьбы
Горит святое в очаге полено.
Лирика Реверди кажется зашифрованной из-за своей сжатости, внутренней уплотненности подчас донельзя, до тем ноты. Он чурается всякого повествования, логических пере ходов, облегчающих подсказок, привлекательных узоров, су хо обнажая очищенную с кропотливой выверенностью суть переживаний, дум, впечатлений – их костяк. Разнородные подробности, выхваченные мгновенным озарением чувств где-то на пересечении внешнего жизненного потока и потока душевного, здесь взвешено отобраны и затем без малейших перемычек и швов сбиты друг с другом:
Весь воздух просверлен
В гнезде
И на изгибе
Над хриплым флюгером близ труб
И этот клад
Еще извивов ряд.
И время чуть задето,
Когда летит авто там где-то вдалеке,
На стыке островов
Бесследно на тропе больших течений ночи
Гремят бубенчики средь улицы,
И шум,
Проходит шествие,
Иль эта кавалькада
Кортеж под аркою круглящейся небес?
Стрела колеблется, отодвигая
Историю и всех, кого забыть легко.
В своем образотворчестве, а оно у Реверди цементирующий раствор всей стиховой кладки, он следовал правилу: «чем отдаленнее друг от друга сближаемые предметы и чем вернее угадана их связь, тем сильнее образ». Подобные метафоры изумляют своей неожиданностью, нанося удар по привычному взгляду на окружающее, а их гроздья, полученные путем столь же непредсказуемо вольного сопряжения, подразумевают готовность воспринимать их и созерцать безотносительно к любому внешнему сходству с естественным порядком вещей – как совершенно самостоятельную рукотворную действительность. Реверди в этом смысле довершал, договаривал до конца начатое во Франции еще Бодлером перетолковывание классического принципа подражания природе, когда заявлял: «Природа – это я». И вслед за Аполлинером, в лад с Элюаром, своим единомышлен ником по оспариванию аристотелевской установки на «мимезис», пояснял, что стремится творить с независимостью движущегося ледника, разыгравшегося моря или плывущих в небе облаков, а создаваемое им призвано воздействовать на нас столь же безусловно и непреложно, как сама очевидность жизненных явлений. Поэтому мысль в его стихах редко высказывается прямо, в открытую, чаще она растворена в «языковом предмете» – прочном, упругом, почти осязаемом на ощупь, как физическое тело:
Движение руки
Как листьев трепетанье И холодок с реки
И чей-то оклик дальний
В молчании густом
Где ни единой складки
Ладонь рассветных слез и отмелей перчатки
Волна тревожит гладь
Проходит борозда
И небо еле живо
Устало солнца ждать
К дороге дерево клонится вопрошая
Машина как в дыру летит за горизонт
Все стены тянутся и сохнут на ветру
И прячет под мостом лицо тропа глухая
Когда чуть слышен лес
И ночь порхает с ветки
Средь мертвенной листвы где теплится дымок
Заката спящий глаз
Последний отблеск краткий
Стальная нить небес
Роняет крик касатки.
Слово тут выпукло, поистине вещественно – это не изливающая себя и поющая, а оплотнившаяся духовность.