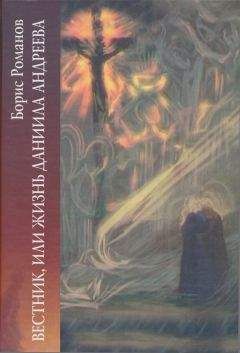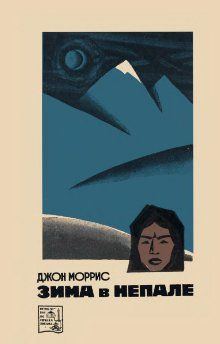К началу февраля, приходя в себя после инфаркта, он постепенно возвратился к занятиям. Его поддерживала необходимость завершить то, к чему, не сомневался, предназначен: принести полученную весть о разнозначных мирах Шаданакара. Но и совершавшееся рядом задевало. В письмах он с жаром обсуждал намерение жены читать с лагерной эстрады Щипачева — "олицетворение самой серой духовно — сытой посредственности", индийские фильмы, которых, увы, не мог видеть, расспрашивал, какие известия до нее дошли о родных, о друзьях… "Зима у нас выдалась очень мягкая, — писал он с иронией. — Даже с оттепелями. Но оттепели посреди зимы, это, как говорится, "для бедных". Теперь, кстати говоря, они уже в прошлом; мороз хватил с новой силой. Этого и следовало ожидать. Ты читала Эренбурга? Вещь посредственная, напрасно вокруг нее ломалось столько копьев. Но за одно ему честь и хвала: в его положении разглядеть в реальной жизни, а тем более — изобразить такие явления, как этот чудесный художник-пейзажист, верный самому себе и мужественно несущий крест своего творчества. О существовании таких феноменов огромное большинство и не подозревает.
А у меня полоса невезения. Не одно, так другое. Сейчас лежу с прострелом, пишу в самой нелепой позе, поэтому и каракули такие.
<…>3а меня не беспокойся, все кончится хорошо, в этом я уверен. Но "хорошо кончится" — это не значит, что не будет больше никаких потрясений. Если бы планетарный космос не представлял собой систему разнозначных, разномерных миров, от Мировой Сальваттеры до люциферического антикосмоса, и если бы путь монады не пронизывал их все выше и выше, до ступени демиургов галактик и еще выше, до самого Солнца Мира — тогда бы могло быть место отчаянью. Мною пережито в этом направлении за последние годы нечто огромное. И, что составляет мою особенную радость, так это то, что я нашел для некоторых тем этого порядка форму выражения. Странную, ни с чем не схожую, но, кажется, бьющую в цель без промаха. Когда кончится бесплодный год, начавшийся прошлой весной, займусь окончательной обработкой"[487].
Беспокойные размышления о будущем не сводились к надежде выйти из тюрьмы. Родители жены, слыша об амнистиях, о выходивших на свободу, продолжали писать заявления куда только можно, обивали доступные пороги. На активные действия они подвигали и зятя, после письма Маленкову, в феврале, обратившегося к Хрущеву. Жена писала ему о "деле": "Оно пересматривается, очевидно, целиком, т. е. тебя касается так же, как меня. Если твои возможности писать официальные бумаги не ограничены, то учти следующее: наше дело пересматривает Главная военная прокуратура, главный военный прокурор генерал — майор Тарасов, очень большой смысл имеет писать в ЦК, там "нами" ведают: секретарь ЦК КПСС Суслов и в административном отделе ЦК — Дедов. Я сегодня написала маленькие заявления двум первым, на днях напишу третьему. Мало понимаю, почему ты писал именно Хрущеву, но и это неплохо"[488]. Особенно бодро был настроен тесть. Но Андреев в настоящую оттепель не верил и в очередном письме спрашивал: "Основаны ли оптимистические выводы А<лександра>П<етровича>на наблюдениях и соображениях общего порядка или же на последних сведениях?" И сообщал: "Никакого ответа на мои заявления, посл<анные>в центр, я до сих пор не получил, даже не дано уведомления о судьбе самого заявления. А ведь прошло уже 4 месяца"[489].
Из больничного корпуса в 49–ю камеру он вернулся только 12 марта. В ней оказался и Зея Рахим, с которым они больше года находились в разных камерах. Здесь Андреев почувствовал себя гораздо лучше. В начале апреля писал жене: "У меня началась, очевидно, хорошая полоса. Здоров отлично. Во — вторых, кончился, наконец, период "бесплодия", длившийся свыше года. Это стимулируется еще и тем, что теперь у меня на руках черновики, которые я не видел несколько лет и на 3/4 забыл. А в — третьих, — я встречаю к себе человеческое отношение, и сказалось оно, между прочим, и в том, что близкий человек, о кот<ором> я упоминал и общение с которым для меня очень важно и ценно, теперь со мной. Это для меня большое счастье". Он даже сравнивает Рахима, открыто восторгавшегося его сочинениями и таинственно намекавшего, что он чуть ли не египетский принц, с сиятельным покровителем Вагнера: "В моей жизни он — отчасти — кто-то вроде Людвига Виттельсбаха. Впрочем, если в будущем даже и не случится ничего головокружительного, все равно он останется одной из самых серьезных встреч за всю мою жизнь".
Улучшение самочувствия Андреев приписывал терапии босикомохождения: "Исключая короткое время, когда я лежал из-за сердца или с прострелом, я всю зиму проходил босиком, хожу, конечно, и теперь, и только в сильные морозы надевал, на половину прогулочного времени, тапочки на босу ногу. Воздействие этого, в особенности хождения по свежему снегу, на здоровье совершенно поразительно". Он даже надеялся, что от босых прогулок "преодоляются и сердечные недуги". Вернулась работоспособность, стало писаться. "…Мне не хватает времени, — воодушевленно отчитывался жене. — Литерат<урные>занятия, хинди, плюс прогулка, краткий отдых за шахматами — и дня уже нет. Еще 2–3 часа лежишь без сна, но и это время весьма продуктивно".
Хинди — русский словарь воскресил индусскую часть его души. Воодушевляло, что об Индии чаще и чаще писали советские газеты. Он просит родителей жены разыскать грамматику хинди и недавно изданные — "Историю Индии" Синкха и Банерджи и "Древнеиндийскую философию" Чаттерджи и Датта.
Оправившись от болезни и вновь взявшись за словарь, он обнаружил, что две трети слов забылись. "Это открытие привело меня в крайнее уныние", — сокрушался Андреев, но упорно продолжал занятия. Получив от тестя только что вышедшую "захватывающе интересную книгу" — "Введение в индийскую философию" Чаттержди и Датта, он делился с женой впечатлениями: "Она написана ясным, четким языком, объективна и очень обстоятельна. Я одолел пока введение, пробежал забавную систему чарваков — в стиле наивного материализма (схожую отчасти с эпикуреизмом, но более грубую) и проштудировал изумительную (особенно в отношении этики) философию джайнизма.<…>Между прочим, у джайнистов есть такая мысль: "Благополучие — это внешний покров жизни, и нарушить благополучие другого значит причинить вред жизни. Без благополучия (в том или ином виде) человеческая жизнь невозможна, поэтому лишение человека благополучия фактически является лишением его тех существенных условий, от которых зависит его жизнь и духовное развитие". Теперь я перешел к философии буддизма. Всем этим я занимался раньше, в 930—35 гг., но тогда я пользовался преимущественно работами по истории религий, а в таком сугубо философском разрезе сталкиваюсь с этим впервые. А впереди еще 6 ортодоксальных философских систем индуизма: йога, веданта и др. Представляешь, какое наслаждение!"[490]
Присылаемые Бружесами книги, издававшиеся одна за другой в те годы сближения СССР и Индии, — "История Индии" Синкха и Банерджи, "Открытие Индии" Неру, рассказы Тагора, индийские народные сказки, "Дневники путешествия в Индию и Бирму" Минаева, репродукции с картин советских художников, посетивших Индию — по — детски его радовали. Запоем прочитав книгу Джавахарлала Неру, при всех несогласиях, оценил ее высоко: "Он<…>односторонен, рационалист, благоговеет перед научным методом, собственного мировоззрения у него так и не выработалось; но в каждой странице чувствуется огромная культура, широта и крупный масштаб личности. А главное — он прекрасный человек, гуманист в настоящем смысле слова, и заслуги его перед Индией колоссальны. Словом он владеет блестяще…"[491] "Представляешь "гамму моих ощущений"! — делился он с женой. — Нет, у меня этот комплекс не ослаб, а углубился, хотя в текущий период центр тяжести моих интересов — в другом, в формировании кое — каких обобщений. От слепого поклонения Индии я далек, отдаю себе отчет в ее слабых и темных сторонах, а также в духовно — историч<еских> опасностях, кот<орые> ее подстерегают внутри неё самой. Но она мне интимно близка так, как ни одна страна — кроме, разумеется, России"[492].
Неожиданное возвращение старых тетрадей, когда-то, казалось навсегда, изъятых при "шмоне", обнадеживало, стало поводом для оптимизма. И он уверял жену: "В будущем году нашей жизни наступит резкий перелом"[493]. Оживились надежды, что рукопись романа уцелела. Он даже принялся обдумывать его новую редакцию, собираясь "ввести еще два лица и несколько глав". Но главным делом оставался трактат о Розе Мира. Новые стихотворения вырастали из него:
Медленно зреют образы в сердце,
Их колыбель тиха,
Но неизбежен час самодержца —
Властвующего стиха.
В камеру, как полновластный хозяин,
Вступит он, а за ним
Ветер надзвездных пространств и тайн
Вторгнется, как херувим.