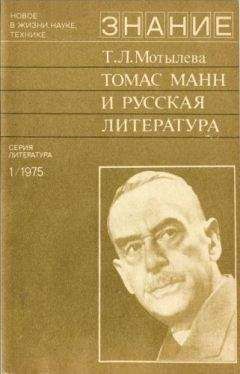и т. д. — Но ведь это пункт "маскарадный" ("Маскарад" Лермонтова), магический пункт, в котором уже нет "Пушкинского и Лермонтовского", как "двух начал петербургского периода", но Пушкин "аполлонический" полетел в бездну, столкнутый туда рукой Чайковского— мага и музыканта, а Лермонтов, сам когда–то побывавший в бездне, встал над ней и окостенел в магизме и кричит Пушкину вниз: "Добро, строитель!" <…> Конечно, если это туманно написано, просто можно вычеркнуть. Я путаюсь в этом страшноватом для меня пункте". Нынешний читатель, знакомый с творчеством Даниила Хармса, возможно, прочтет это блоковское письмо сквозь призму "Анекдотов из жизни Пушкина" и усмехнется раскричавшимся в нем совершенно по–хармсовски классикам. Но исследователь культуры "серебряного" века моментально заметит, что все упоминаемые или цитируемые здесь Блоком произведения— "Пиковые дамы" Пушкина и Чайковского, "Маскарад", "Подросток" ("петербургский период" — оттуда), "Медный всадник" ("Добро, строитель чудотворный! — Шепнул он, злобно задрожав, — Ужо тебе!..")— принадлежат "петербургскому тексту" русской литературы, то есть некоей совокупности творений разных авторов (да и разных искусств), воспринятых культурным сознанием начала XX века в качестве единого текста [141]. И очевидно, шевельнувшееся ощущение близкого родства противопоставляемых Блоком "Пиковой дамы" и "Маскарада" мешает ему четко выразить наметившееся сравнение (стоящие за ним историко–культурные ассоциации, в частности, антиномия "классического" и "романтического" начал литературы, тонко выявлены 3. Г. Минц [142]), превращая то, что "разумелось само собой", в запутанный и "страшноватый" для поэта "пункт". Именно это неосознанное ощущение сопротивляющейся разъятию близости и окунуло, вероятно, в образы и понятия "Пиковой дамы" перо Блока, изготовившееся описать в обсуждаемой с Перцовым статье путь Лермонтова к читателю: "Лермонтов долгое время был (отчасти и есть) только крутящим усы армейским слагателем страстных романсов. <…> На это есть свои глубокие причины, и одна из них в том, что Лермонтов, рассматриваемый сквозь известные очки, почти весь может быть понят именно так, не иначе. С этой точки зрения Лермонтов подобен гадательной книге или упоению карточной игры; он может быть принят как праздное, убивающее душу "суеверие" или такой же праздный и засасывающий, как "среда", "большой шлем"". Но кроме того, не давшееся Блоку противопоставление косвенно подтверждает уже упоминавшуюся версию первоначального родства "Пиковой дамы" и "Маскарада", а отзвук лермонтовской драмы, расслышанный поэтом в либретто оперы, позволяет заключить, что материалом Модесту Чайковскому служили и не вовсе чуждые пушкинской повести произведения.
Надо сказать, что флюиды пушкинской повести действовали не только на Лермонтова и Гоголя, но и на их современников, не сумевших сберечь свою литературную известность до наших дней.
Барон Федор Федорович Корф (1803 —1853) в повести "Отрывок из жизнеописания Хомкина" [143], представляющей, по справедливому замечанию Н. В. Измайлова, "сплав из мотивов Гофмана, Гоголя, "Пиковой дамы", рассказал не слишком занятную историю надворного советника, думавшего "игрою нажить себе состояние". Корф не повторяет и не развивает сюжетную схему пушкинской повести, но постоянно имеет ее в виду. Его герой в результате основанных на кабалистике и чародействе карточных интриг проигрывает всё, седеет и лысеет в одну ночь (трудность достигнуть тут одновременности успешно побеждена автором) и, разумеется, сходит с ума. Всеми этими неприятностями Хомкин обязан носителю сюжетного зла — алхимику, чародею (и, конечно, немцу) Адаму Адамовичу Братшпису, до поры искусно притворяющемуся чуть ли не благодетелем несчастного надворного советника. И до того, как сюжет поворачивает к хеппи энду, возвращая герою рассудок и счастье, Хомкин успевает в своем недолгом умопомешательстве многократно процитировать прием, которым показана сосредоточенность на трех картах Германна. — "Увидев молодую девушку, он говорил: "Как она стройна!.. Настоящая тройка червонная". У него спрашивали: "который час", он отвечал: "без пяти минут семерка". Всякий пузатый мужчина напоминал ему туза".
То же и Хомкин:
"— Точно, правда, играли до шестого часа от четверки… так не диво, что бубновый час.
— Какой бубновый час, что вы, батюшка?
— Так бубновая четверка, я хотел сказать, пятая четверка, нет, пятый час.
— Полно вам, батюшка, у вас от карт в голове перепуталось: только и речи, что о бубнах да о часах.
— Ваша правда, у меня в голове только и мыслей, что о бубнах да о часах, а все оттого, что, вот видите, если б я прежде поставил пятый час, бишь пятерку, а потом пустил бы бубновую четверку, так и сезелево и сетелево были бы с четверкой…"
И наконец, почти дословно (правда, с тяжеловатым усилением пушкинского приема) повторял Хомкин Германна, отвечая, который час: "Так бубновая четверка, я хотел сказать, пятая четверка, нет, пятый час".
Иначе подошел к "Пиковой даме" Яков Петрович Б утков (1820 или 1821 —1856) — талантливый прозаик-самоучка 1840–х годов, примыкавший к "натуральной школе" и снискавший широкую известность сборником балансирующих на грани физиологического очерка замечательных рассказов — "Петербургские вершины" (ч. 1—2. Спб., 1845—1846). В статье, сопровождающей единственное пока советское издание прозы Буткова (М., 1967), Б. С. Мейлах, говоря о действующем в рассказе "Сто рублей" конторщике, писал: "По существу образ Михея — это приземленный, прозаически сниженный вариант Германа (так! — Л. И. — Т.) из пушкинской "Пиковой дамы". Основанием для этого утверждения исследователю послужило то, что "Михей обладал сильным характером и всемогущей верой в себя", позволяя увидеть в себе "потенциального буржуа–предпринимателя" (везде цитируем Мейлаха). Сравнение ученого верно лишь в самых общих чертах, на уровне, так сказать, общественно–экономических формаций (оба персонажа, если взглянуть на них широко, могут быть истолкованы — впрочем, не без усилий воображения — как предвестники капитализма в России). Что касается литературных аналогий, то Германна (действительно "прозаически сниженного") с гораздо меньшей натяжкой можно вспомнить при взгляде на главного героя разбираемого Мейлахом рассказа — чиновника–неудачника Авдея, страстно мечтающего о выигрыше в лотерею крупной для него суммы. По дальнейшей его судьбе вымеряется разница времени (1830–е—1840–е) и положений (инженерный офицер — нищий чиновник): вослед Германну, в больницу для умалишенных, Авдей отправляется не после проигрыша, а не пережив выигрыша, при этом он не находит, в отличие от своего предшественника, пристанища в 17–м нумере, а узнает, что ему и "в доме сумасшедших нет ваканции!..".
Еще последовательнее (и гораздо откровеннее) некоторые события "Пиковой дамы" воспроизведены — опять‑таки с поправкой на новое время и интересующую Буткова социальную среду — в рассказе "Порядочный человек", также принадлежащем к "Петербургским вершинам".
В начале повествования Лев Силич Чубукевич, "нося девственный чин коллежского регистратора, вовсе не думал сделаться когда‑нибудь порядочным человеком". Постоянные лишения превратили его в "род ходячей машины для письма, приводимой в движение столоначальником". "Сознание ничтожества и безнадежности его положения убило в нем весь запас самолюбия, а запас этот, по соображению крошечного ранга и недальнего воспитания Чубукевича, долженствовал быть весьма значителен". Сообщив это чрезвычайно важное для нашего сопоставления обстоятельство, Бутков предполагает два возможных пути своего героя: "…он стал одним из тех людей, которых без разбора называют лошадьми и пошлыми дураками и которые ждут только одного сильного толчка, одного нравственного потрясения, чтобы или вовсе одуреть и переехать на постоянное жительство за девятую версту, или выказать и доказать ум обширный, опытность изумительную". Именно этот психологический тип впоследствии был обнаружен в Германне М. О. Гершензоном, по мнению которого, художественный замысел "Пиковой дамы" — это "соприкосновение души, определенно настроенной, с соответствующим этому настроению элементом действительности" ("Вся грядущая драма Германа, — продолжает исследователь, — его безумие и гибель— уже до начала действия заложена в его душе потенциально, но для того, чтобы она разразилась, нужен толчок извне, хотя бы самый незначительный").
Бутков избавляет своего героя от психиатрического отделения в "Больнице всех скорбящих", приютившейся на девятой (а по счету рассказа "Сто рублей", — на одиннадцатой) версте Петергофской дороги, и дает ход другому варианту его судьбы, позволяющему "доказать ум обширный, опытность изумительную". Для этого игра Чубукевича все время идет на выигрыш.