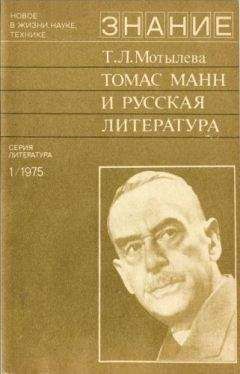Другая черта Германна — страстная одержимость идеей разбогатеть — возродилась в мечтающем стать Ротшильдом герое романа "Подросток". Именно устами Подростка единственный раз публично упоминает "Пиковую даму" Достоевский (в произведении, а не в письме или записи для себя). Упоминание это (оно находится в восьмой главе первой части романа) весьма и весьма примечательно. "Всякое раннее утро, петербургское в том числе, имеет на природу человека отрезвляющее действие. Иная пламенная ночная мечта, вместе с утренним светом и холодом, совершенно даже испаряется, и мне самому случалось иногда припоминать по утрам иные свои ночные, только что минувшие грезы, а иногда и поступки с укоризною и стыдом. Но мимоходом, однако, замечу, что считаю петербургское утро, казалось бы самое прозаическое на всем земном шаре, — чуть ли не самым фантастическим в мире. Это мое личное воззрение или, лучше сказать, впечатление, но я за него стою. В такое петербургское утро, сырое и туманное, дикая мечта какого‑нибудь пушкинского Германна из "Пиковой дамы" (колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип — тип из петербургского периода!), мне кажется, должна еще более укрепиться. Мне сто раз среди этого тумана задавалась странная, но навязчивая греза: "А что, как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй, для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем загнанном коне?" Одним словом, не могу выразить моих впечатлений, потому что все это фантазия, наконец, поэзия, а стало быть, вздор; тем не менее мне часто задавался и задается один уж совершенно бессмысленный вопрос: "Вот они все кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, все это чей‑нибудь сон, и ни одного‑то человека здесь нет настоящего, ни одного поступка действительного? Кто‑нибудь вдруг проснется, кому это все грезится, — и все вдруг исчезнет". Но я увлекся".
Достоевский интуитивно ощутил глубокую родственность и насыщенную мотивную взаимосвязь "Пиковой дамы" и внешне не слишком на нее похожего (хотя и написанного одновременно — той же "второй" болдинской осенью 1833 года) "Медного всадника". Снова соединившись на этой странице "Подростка", две "петербургские повести" Пушкина уже вместе, в виде неразрывного единства войдут в петербургский миф (зловещий город–призрак, город–сон), которому суждено окутать русскую культуру "серебряного" века. Тонкая подсказка Достоевского пригодится и эссеистам — от Евгения Иванова до Иванова–Разумника, — и литературоведам, чье бремя самоотверженно примет на себя поэт Владислав Ходасевич [147].
Немало позднейших размышлений вызовет и характеристика Германна, без цитирования которой в двадцатом веке, пожалуй, не сможет обойтись ни одно исследование "Пиковой дамы". Но пока ("Подросток" опубликован в 1875 году) никто не замечает в довольно прохладно принятом обширном романе приведенную нами страницу.
Меж тем в соседних с нею строках покоится знаменитый афоризм Подростка: "Реализм, ограничивающийся кончиком своего носа, опаснее самой безумной фантастичности, потому что слеп". Проблема, затронутая здесь, давно не отпускает Достоевского — вспомним хотя бы его письмо к Н. Н. Страхову 26 февраля 1869 года: "У меня свой особенный взгляд на действительность (в искусстве), и то, что большинство называет почти фантастическим и исключительным, — то для меня иногда составляет самую сущность действительного. Обыденность явлений и казенный взгляд на них, по–моему, не есть еще реализм, а даже напротив". И писатель постоянно обращается к помощи пушкинской повести.
Запись к "Дневнику писателя" в рабочей тетради 1876 года: "Реализм есть фигура Германна (хотя на вид что может быть фантастичнее), а не Бальзак. Гранде — фигура, которая ничего не означает".
Подход с другой стороны в подготовительных материалах к этому же изданию (октябрь 1876 года, главки I‑II):
"Кстати: что такое фантастическое в искусстве. Побежденные и осмысленные тайны духа навеки.
Родоначальник Пушкин. "Пик[овая] дама", "Мед[ный] всадник", "Дон–Жуан"".
За полгода до смерти писателя и на следующий день после знаменитой "пушкинской речи", 9 июня 1880 года, Достоевского посетила М. А. Поливанова, записавшая следующие его восклицания: "Мы пигмеи перед Пушкиным, нет уж между нами такого гения! Что за красота, что за сила в его фантазии! Недавно перечитал я его "Пиковую даму". Вот фантазия". Далее, по словам мемуаристки, "тонким анализом проследил он все движения души Германа, все его мучения, все его надежды и, наконец, страшное внезапное поражение, как будто он сам был тот Герман". "Мне казалось, — продолжает Поливанова, — что я в том обществе, что предо мной Герман, меня самое била нервная лихорадка, и я сама стала испытывать все ощущения Германа, следуя за Достоевским".
Это (вероятно, последнее в жизни Достоевского) чтение "Пиковой дамы" побудило писателя через несколько дней, 15 июня, высказать в письме к Ю. Ф. Абаза новую оценку повести, в которую переплавлены все прежние.
"Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что Вы должны почти поверить ему. Пушкин, давший нам почти все формы искусства, написал "Пиковую даму" — верх искусства фантастического. И вы верите, что Германн действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем в конце повести, то есть прочтя ее, Вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из природы Германна, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враждебных человечеству духов. NB. Спиритизм и учения его.) Вот это искусство!" [148].
Приведенные слова — едва ли не лучшее из сказанного за полтора с лишним века о "Пиковой даме" — долго оставались достоянием частной переписки (письмо Ю. Ф. Абаза опубликовано лишь в 1906 году), а читающая публика тем временем благодушно посмеивалась над незадачливым Нотгафтом и остроумцем Ногтевым. Достоевский в уже цитированных записях к "Дневнику писателя" 1876 года превосходно описал логику подобного читательского отношения: "Для вас пиши вещи серьезные, — вы ничего не понимаете, да и художественно писать тоже нельзя для вас, а надо бездарно и с завитком. Ибо в художественном изложении мысль и цель обнаруживаются твердо, ясно и понятно. А что ясно и понятно, то, конечно, презирается толпой, другое дело с завитком и неясность: а мы этого не понимаем, значит тут глубина. (NB. Повесть "Пиковая дама" — верх художественного совершенства—и "Кавказские повести" Марлинского явились почти в одно время, и что же — ведь слишком немногие тогда поняли высоту великого художественного произведения Пушкина, большинство же наверно предпочло Марлинского.)" Здесь нечего прибавить. Слова Достоевского абсолютно точны для нескольких десятилетий жизни "Пиковой дамы": от рождения до той поры, когда пушкинская повесть была прочитана русским обществом под музыку Чайковского.
Надо сказать, что это организованное оперой коллективное чтение могло и не состояться, поскольку, как мы сейчас увидим, могла не состояться и сама опера. Скоро ли в таком случае явился бы новый взгляд на "Пиковую даму"? Любые ответы на подобные поставленные в сослагательном наклонении вопросы всегда одновременно: а) безопасны, б) все же рискованны, в) безусловно бессмысленны. И тем не менее рискнем предположить (ведь безопасно же), что отсутствие оперы отдалило бы новое прочтение пушкинского произведения отнюдь не на века (при том, что ее появление чувствительно этот пересмотр приблизило). Необходимость нового взгляда (да не причтут нас за это заявление к когорте мудрецов, склонных "фатализировать" исторический процесс) назрела. Дело в том, что под полностью—по мнению читателя 1890–х — осыпавшимся конкретно–историческим смыслом пушкинской повести уже готов был проступить смысл абстрактно–философский. Одновременное их сосуществование в читательском восприятии — весьма естественное для сочинения всякого иного автора — здесь исключалось. Как справедливо замечено будто по этому самому поводу в начале шестой главы "Пиковой дамы", "две неподвижные идеи не могут вместе существовать в нравственной природе, так же, как два тела не могут в физическом мире занимать одно и то же место". Интерпретация прочитанного произведения Пушкина всегда, как мы уже говорили, склонна превратиться в читательской голове в "неподвижную идею" (пушкинский перевод французского idee fixe): читать так и только так! До сих пор, за отсутствием вариантов, целые поколения читали "Пиковую даму" слаженным хором.
И потому готовность к замене одной "неподвижной идеи" на другую разом ощутило в 1890—1900–х целое поколение.
Осуществлялась эта замена силами лишь одного человека, который к тому же, стараясь поначалу уклониться от своего предназначения, отвечал 28 марта 1888 года младшему брату, предложившему ему свое либретто: "Извини, Модя, но я нисколько не сожалею, что не буду писать "Пиковой дамы". <…> …оперу стану писать только, если случится сюжет, способный глубоко разогреть меня. Такой сюжет, как "Пиковая дама", меня не затрагивает, и я мог бы только кое‑как его написать". Как видим, П. И. Чайковский пока читает повесть, как все.