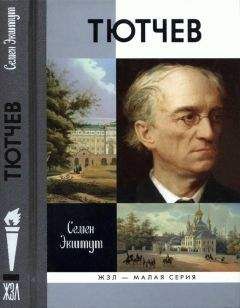Трифонов сумел показать удивительную духовную нищету иных столичных интеллигентов, живших в мире мифов и эти мифы постоянно воспроизводящих. Знаменательно, что фронтовое прошлое Геннадия никем не расценивается как нечто героическое. Рита и Кирилл замечают лишь то, что он «производит муру». Они не испытывают чувства гордости от того, что их муж и отец защищал и защитил Родину, пролил за неё кровь. Поразительная деформация нравственных ценностей! А вот якобы протестное, а по сути совершенно бессмысленное с точки зрения Геннадия поведение Гартвига вызывает бурное восхищение Риты и людей её круга. Они не желают видеть, что так называемый вызов решительно ничем не грозит самому Гартвигу.
Геннадий же полагал, что Герой движут не столько протестные настроения, сколько отсутствие смысла жизни и глубоко запрятанный комплекс неполноценности, когда творчество заменяется его имитацией. «А когда нетворческий человек пытается творить, он заменяет акт творчества чем попало — чаще всего ничтожными домашними революциями <…> Ведь обществу, окружающим от этих геройств не холодно и не жарко»[142]. Геннадия раздражает потребительское отношение Гартвига к людям и своим близким. «Только бедная Эсфирь страдает и ребёночек отвыкает от отца. Обыкновенный цинизм в благородной упаковке: потому что наплевать на всех, кроме себя. Захотел удрать от вас от всех на полгода — хоть матросом, хоть куда — удрал, и до свиданья»[143]. Вместе с тем Геннадий отдавал должное уму, обширным знаниям Гартвига и его стремлению изучать не только минувшее, копаясь в средневековых текстах, но и настоящее, доходя «до последней капли, до дна. И куда другие заглянуть не решаться, он заглянет, не смутится ничем»[144]. Судя по всему, Гартвиг серьёзно интересовался не только латинскими авторами, но и трагическими страницами недавнего прошлого. Если для Геннадия поездка Геры на лесоповал в Калининскую область была очередным «вздором», то для социолога Гартвига это было самым настоящим полевым исследованием.
Настойчивое стремление Герасима Ивановича окунуться в гущу настоящей жизни не было «вздором, причудами полусладкой жизни»[145], и подобные эскапады безнаказанно сходили Гартвигу с рук лишь до поры до времени. Трифонов удивительно точен при характеристике обстоятельств времени и места. Вспомним, что события в повести происходят в конце 1960-х годов. После событий в Чехословакии 1968 года власть стала закручивать гайки, и даже имитация протестных настроений могла привести к оргвыводам. Кроме того, начались гонения на советскую социологию. В 1969 году из Института конкретных социальных исследований Академии наук СССР был уволен известный социолог Юрий Александрович Левада, один из зачинателей социологии в стране и впоследствии создатель Левада-Центра. Была фактически разгромлена только что созданная кафедра методики конкретных социальных исследований философского факультета МГУ, а первая заведующая кафедрой профессор Галина Михайловна Андреева в 1971 году была вынуждена покинуть философский факультет и перешла работать на факультет психологии. Социология как самостоятельная научная дисциплина оказалась под запретом. Как пишет в своих воспоминаниях историк Арон Яковлевич Гуревич, «причина запрета этой научной дисциплины по-прежнему заключалась в том, что партийные боссы и мракобесы от марксизма упорствовали в своём нежелании признать за ней право на самостоятельное существование»[146]. Не будем забывать, Гартвиг не просто занимался социологией, но настойчиво пытался связать старину и современность. После 1968-го всё это уже не выглядело так безобидно. «Кто-то мне сказал, что у Гартвига неприятности в институте и ему вроде бы даже грозит увольнение. Ну, следовало ждать. Я нисколько не удивился»[147].
Вспомним, что повесть называется «Предварительные итоги». Юрий Трифонов подводит предварительный итог не только жизни переводчика Геннадия, но и предварительный итог полувековому существованию советской интеллигенции, «дочерпывая», по его выражению, мысли, выраженные в «Кепке с большим козырьком» и «Обмене». «Нужно дочерпывать последнее, доходить до дна…»[148]У его героев-интеллектуалов напрочь отсутствовала целеустремленность, цельность парикмахера Арташеза. У инженера Дмитриева, переводчика Геннадия и социолога Гартвига нет никакого внутреннего стержня и почти полностью атрофировано стремление идти к намеченной цели, да и самой этой цели нет. При этом жизнь Геннадия ещё и абсолютно бессмысленна: он занимается хорошо оплачиваемым, но по сути никому не нужным и абсурдным делом. «Мне представилось, что дрянная ашхабадская водка, стоявшая на моём столе, есть подстрочник, который я должен перевести четырёхстопным амфибрахием на русский язык, и тогда это будет бутылка „столичной“»[149]. Выразительная деталь. Даже самого автора «Золотого колокольчика» абсолютно не интересует русский перевод своей поэмы: едва выслушав чтение двух глав из двенадцати, он поспешно сбегает по своим неотложным делам. Абсурдной была деятельность Геннадия не только с творческой точки зрения, но и с идеологической, хотя именно за идеологию ему, строго говоря, и платили. Официальная идеология, вынуждающая считаться с ней даже самых свободолюбивых и талантливых творцов, уже была мертва. Образовавшуюся пустоту нужно было чем-то заполнить. В семье Геннадия эту пустоту заполняли суррогатами — псевдорелигиозными исканиями и жаждой потребительства.
Попытки отыскать смысл жизни в настоящем ни к чему не привели, призывы к строительству светлого будущего вызывали лишь ироническую ухмылку. Оставалось только прошлое. И герои Трифонова попытались выявить связь между прошлым и настоящим, дотронуться до конца нити, протянувшейся из минувшего в сегодняшний день. Происходило ощутимое разрешение временных горизонтов.
Глава 6
КОГДА ПОГРЕБАЮТ ЭПОХУ…
Если переводчик Геннадий из «Предварительных итогов» часто углублялся в события двадцатилетней давности, вспоминая свою послевоенную юность, полную надежд, которым так и не суждено было сбыться, то драматурга Григория Реброва и его жену актрису Лялю Телепневу из повести «Долгое прощание» (1971) мы застаём в момент, когда «всё впереди, всё ещё случится, произойдёт»[150].
Молодость Реброва и Ляли, как и молодость Геннадия, пришлась на последние годы жизни Сталина. «В те времена, лет восемнадцать назад, на этом месте было очень много сирени. <…> Но, впрочем, всё это было давно. Сейчас на месте сирени стоит восьмиэтажный дом, в первом этаже которого помещается магазин „Мясо“. Тогда, во времена сирени, жители домика за жёлтым дачным заборчиком ездили за мясом далеко — трамваем до Ваганьковского рынка. А сейчас им было бы очень удобно покупать мясо. Но сейчас, к сожалению, они там не живут»[151].
«Долгое прощание» — повесть о постепенном исчезновении надежд на счастье, растянутое во времени и в пространстве прощание с иллюзиями и надеждами. Главный герой повести Гриша Ребров воевал, был ранен, мыкался по госпиталям и в течение целого ряда лет не мог найти себя в мирной жизни.
Когда мы вернулись с войны,
я понял, что мы не нужны.
Захлебываясь от ностальгии,
от несовершенной вины,
я понял: иные, другие,
совсем не такие нужны.
Господствовала прямота,
и вскользь сообщалося людям,
что заняты ваши места
и освобождать их не будем…[152]
Зимой 1952 года, когда разворачиваются основные события повести, Ребров — литературный подёнщик, живущий случайными заработками и не имеющий ни постоянной работы, ни определённого места в обществе. Он написал две вполне конъюнктурные пьесы: одну — о строительстве высотного здания Московского университета, другую — о войне в Корее. «К своим пьесам Ребров относился двойственно — с одной стороны, как бы не всерьёз, видел их слабину, прозрачный расчёт, но не очень-то огорчался, полагая, что эти пьесы для него дело второстепенное, неглавное; с другой же стороны, они были делом вполне главным и даже главнейшим в смысле житейском, на них зиждилось будущее»[153]. Если бы театр принял к постановке эти пьесы, то жизнь Реброва изменилась бы радикально: он разом обрёл бы материальную обеспеченность и твёрдое общественное положение. Однако обе пьесы были отвергнуты театром. Ситуация усугублялась тем, что именно в этом театре служила жена Реброва Ляля Телепнева, и её в этом театре всячески унижали и не давали ходу. Ребров и Ляля жили вместе уже пять лет, с зимы 1947 года, но мать Ляли всячески препятствовала тому, чтобы они оформили свои отношения, резонно полагая, что Гриша не в состоянии содержать семью. У актрисы была невысокая ставка в театре — 650 рублей в месяц (65 рублей после реформы 1961 года), а случайные заработки Реброва существенной роли в семейном бюджете не играли. «В лучшие времена выходило около тысячи в месяц. Иногда набегало по семьсот, по триста, а то и вовсе — пшик»[154].