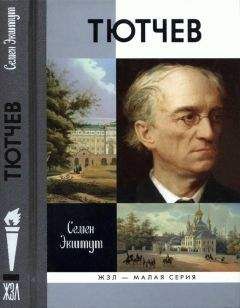У Смолянова был реальный прототип — драматург Анатолий Алексеевич Суров, лауреат двух Сталинских премий, очень популярный в последние годы жизни Сталина и прочно забытый к началу 1970-х годов. О нём помнили лишь как о персонаже эпиграммы Эммануила Казакевича, написанной по случаю драки между двумя лауреатами Сталинской премии — антисемитами Бубенновым и Суровым.
Суровый Суров не любил евреев.
На них везде и всюду нападал.
Его за это порицал Фадеев,
Хоть сам он их не очень уважал…
Когда же Суров, мрак души развеяв,
На них кидаться чуть поменьше стал,
М. Бубеннов, насилие содеяв,
Его старинной мебелью долбал.
Певец «Берёзы» в ж… драматурга,
Как будто в иудея Эренбурга,
Столовое вонзает серебро.
Но, следуя традициям привычным,
Лишь как конфликт хорошего с отличным
Рассматривает дело партбюро[176].
Вскоре после смерти вождя Суров был уличён в том, что пользовался услугами «литературных негров», которые фактически и писали его пьесы. За это Сурова в 1954 году исключили из партии и из Союза писателей. Вспомним, что в «Долгом прощании» Смолянов без обиняков предлагает уже стоявшему на самом краю обрыва Реброву сделаться его «литературным негром». Ни о каком соавторстве не было и речи, однако срочно нуждающийся в трудоустройстве Григорий получил бы в результате этой сделки штатное место театрального завлита, которое ещё недавно занимал «безродный космополит» Маревин, с очень хорошим окладом в 1500 рублей. (Напомню, что Ляля получала в том же театре 650 рублей.) Ребров, догадавшийся о связи Ляли и Смолянова, отказался, круто изменил свою судьбу, завербовавшись в геологическую партию, и в начале марта 1953 года уехал из Москвы. О смерти Сталина он узнал в поезде.
Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить её предстоит.
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждёт!
И тихо, так, Господи, тихо,
Что слышно, как время идёт.
А после она выплывает,
Как труп на весенней реке, —
Но матери сын не узнает,
И внук отвернётся в тоске.
И клонятся головы ниже,
Как маятник, ходит луна[177].
Прошло восемнадцать лет. Каким же стало то будущее, на которое столько надежд возлагали герои повести? Смолянов канул в безвестность: «обеднял, захирел, пьес не пишет и живёт тем, что сдает дачу жильцам на лето»[178]. Конфликт «хорошего с отличным» уже перестал существовать, и искусство стало постигать реальную жизнь. Но в этом новом искусстве Ляле не было места. Актёр-актёрычи не простили ей былого успеха. Ляля была вынуждена уйти из театра. И хотя ей пришлось довольствоваться Домом культуры, жизнь Ляли сложилась вполне благополучно: муж — военный инженер, преподаватель академии, кандидат наук; сын-восьмиклассник, собственный автомобиль, ежегодные автомобильные поездки летом то в Крым, то на Карпаты, то в Прибалтику.
Не менее успешно сложилась и жизнь Григория Реброва: «процветает, хорошо зарабатывает сценариями, живёт на Юго-Западе, тоже есть машина, и, кажется, был уж дважды женат. Вот, собственно, и всё»[179]. Строго говоря, Ребров успешно реализовал именно тот сценарий своей жизни, о котором в молодые годы он думал лишь как о вспомогательном средстве обеспечения главного — своих исторических изысканий. Однако второстепенное стало главным, и ни о каких исторических исследованиях речь уже не идёт. В жизни Реброва есть поездки на кинофестивали в Аргентину или в Бразилию, но нет сути — страстного желания его молодости найти нить, которая связывает прошлое с настоящим и тянется в будущее. «„Моя почва — это опыт истории, всё то, чем Россия перестрадала!“ И зачем-то стал говорить о том, что одна его бабушка из ссыльных полячек, что прадед крепостной, а дед был замешан в студенческих беспорядках, сослан в Сибирь, что другая его бабушка преподавала музыку в Петербурге, отец этой бабушки был из кантонистов, а его, Гришин, отец участвовал в первой мировой и в гражданских войнах, хотя был человек мирный, до революции статистик, потом экономист, и всё это вместе, кричал Гриша в возбуждении, и есть почва, есть опыт истории, и есть — Россия, чёрт бы вас подрал, с вашими вывороченными мозгами!»[180]
Ляля и Ребров достигли предельно возможного в то время благополучия и достатка, но так и не смогли добиться главного — того, что составляло смысл их существования в последние годы жизни вождя. Из их жизни безвозвратно ушло творчество, а сама жизнь стала заурядной и рутинной. Ни их талант, ни их душевный жар так и не были востребованы. Если талантливые люди не имеют возможность реализовать свой дар, то это означает лишь одно: строй, при котором они живут, обречён. Ровно за двадцать лет до конца советской власти Юрий Валентинович Трифонов своей чуткой интуицией большого художника постиг полную бесперспективность этой самой власти. Герои «Долгого прощания» были способны прожить другую жизнь.
Глава 7
ИНФАНТИЛИЗМ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Именно так называется следующая повесть «московского цикла» — «Другая жизнь» (1975). Главный герой повести — историк Сергей Афанасьевич Троицкий. Историк скоропостижно скончался в возрасте 42 лет. Жизнь Сергея мы видим глазами Ольги Васильевны, его вдовы. Их знакомство пришлось на начало весны 1953 года — на «начало весны, той тревожной, неясной, которую ещё предстояло разгадать… когда все кругом затаив дыхание чего-то ждали, предполагали, шептались и спорили»[181]. Понятно, что все эти ожидания, предположения и споры были связаны с только что случившейся смертью вождя. А роман Сергея и Ольги Васильевны начался летом 1953 года в Гаграх, на берегу Чёрного моря; это было первое лето после смерти Сталина. Именно здесь они узнали об аресте Берии. И хотя это имя в момент написания повести было под строжайшим запретом, Трифонов сумел так построить своё повествование, что наиболее проницательные читатели сразу же поняли, о чём идет речь. Трифонов смотрит на былое глазами Толстого: одно историческое событие сменяется другим, а частная жизнь людей идёт своим чередом. Итак, начало частной жизни Сергея и Ольги совпало по времени с поворотным моментом в жизни страны, а сама эта жизнь целиком уместилась в историческом промежутке между началом оттепели и первыми годами после ввода войск в Чехословакию, то есть между оттепелью и застоем. Это был период относительной идеологической свободы, когда генеральная линия партии неуклонно колебалась, а советские гуманитарии стремились понять законы развития общества, в котором они жили.
Вспоминает историк Арон Яковлевич Гуревич: «В первые годы после смерти Сталина, когда наметились какие-то „телодвижения“ Хрущёва и его окружения, у студентов, естественно, началась ломка сознания. Те, кто задумывался над историей нашей жизни в новейшее время, не понимали, как быть, терялись. В школе их учили, что всё происходящее у нас — истина в последней инстанции; теперь всё расшаталось. Мне приходилось вести с ними откровенные беседы, но я предпочитал делать это всё же приватно, разговоры в больших группах могли привести к неприятностям»[182]. Сергей Троицкий не стал, подобно Гартвигу из «Предварительных итогов», напрямую связывать седую древность со злободневными проблемами сегодняшнего дня, однако сам метод его углубления в историю не имел ничего общего с ортодоксальным марксизмом, который в годы советской власти зачастую выступал в извращённой форме вульгарно-социологического изучения истории. Сергея не интересовали ни общественно-экономические формации, ни классовая борьба, в его лексиконе не было таких слов, как «базис», «надстройка», «историческая закономерность» — для профессионального советского историка, шесть лет проработавшего в секторе революции и гражданской войны, всё это казалось более чем странным и не совсем нормальным.
По авторитетному свидетельству Арона Яковлевича Гуревича, «изучение народных движений и революций ценилось в те годы превыше всего. <…> Было привычным и достойным поощрения изучение разных форм классовой борьбы: восстаний, забастовок или — у крестьян — намёков на неё, побегов, глухого ворчания. Естественно, все формы недовольства выдавались за „классовую борьбу“ (хотя понятие „социальная борьба“ не исчерпывается борьбой классов), порождаемую экономическими противоречиями, угнетением крестьян, рабочих и других социальных групп»[183]. Однако обратить внимание на такую неестественность научных интересов историка Сергея Троицкого могли лишь очень проницательные первые читатели повести и лишь в том случае, если они сами принадлежали к цеху советских гуманитариев. Разумеется, не могло быть и речи ни о каком гласном обсуждении этой противоестественности времени и места.