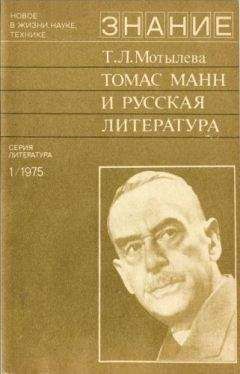По–видимому, сама передача "сюжета" означала передвижение предполагаемого произведения по шкале ценностей — снизу вверх. Гоголь говорит, что Пушкин собирался из этого материала "сделать что‑то… в роде поэмы" (Бартенев упоминает о "романе"). Предположение вполне вероятное, если вспомнить о таких вещах, как "Домик в Коломне" или "Граф Нулин"; в этом случае будущее произведение встало бы в ряд пушкинских "шутливых поэм". Но несмотря на всю значительность "Домика в Коломне" или "Графа Нулина" никто не сказал бы, что это главные произведения поэта; в упомянутом же разговоре речь шла именно о таком произведении Гоголя, о книге, с которой тот должен навсегда войти в историю, как Сервантес со своим "Дон Кихотом". По смыслу воспоминаний Гоголя выходит, что Пушкин согласился передать ему "свой собственный сюжет", так как увидел в его реализации перспективу создания универсального произведения. Произведения, отражающего дух времени, эпоху национальной жизни, как это было опять‑таки с "Дон Кихотом".
Подробности беседы, которые передает Гоголь, выражают идею универсальности, национальноисторической широты. Пушкин и раньше восхищался гоголевской "способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого", то есть искусством характерологии. Теперь он посоветовал придать этому искусству больший размах, подчинить его созданию подлинно национальной портретной галереи. "Пушкин находил, что сюжет М[ертвых] д[уш] хорош для меня тем, что дает полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество самых разнообразных характеров" (VIII, 440).
"Всю Россию" — это близко к фразе, сказанной Гоголем Пушкину в письме от 7 октября 1835 года: "Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь" (X, 375).
Словом, совет Пушкина сыграл в истории гоголевского произведения роль решающего толчка. Но после того как это произошло, в сознании писателя стали кристаллизоваться многие другие, в том числе и личные, впечатления от различных случаев проделок с мертвыми душами, случаев реальных, полу вымышленных или просто вымышленных — не так уж важно. Интересно, что нужду в подобном материале Гоголь испытывал и тогда, когда работа была уже в полном разгаре. "Не представится ли вам каких‑нибудь казусов, могущих случиться при покупке мертвых душ? — писал он В. А. Жуковскому из Парижа 12 ноября н. ст. 1836 года. — Это была бы для меня славная вещь… Хотелось бы мне страшно вычерпать этот сюжет со всех сторон" (XI, 75).
3. "ЗАГЛАВИЕ… НАВОДЯЩЕЕ УЖАС"
Заглавие произведения возникло очень рано, возможно, уже в упомянутой беседе обоих писателей. В письме от 7 октября 1835 года, сообщая о начале работы, Гоголь упоминает название как само собой разумеющееся, уже известное Пушкину: "Начал писать Мертвых душ" (X, 375).
Найденное заглавие очень нравилось Гоголю; он находил его точным, выразительным и оставил неизменным до конца работы (прибавка в заглавии: "Похождение Чичикова, или Мертвые души" в изданной в 1842 году книге — результат цензурного вмешательства).
Гоголь воспринимал название даже как своеобразный девиз книги, как знак, способный заинтриговать будущего читателя и направить его внимание. Поэтому он оповещал о названии поэмы еще тогда, когда о самом ее содержании почти никто не знал, так как писатель хранил все это в глубокой тайне. "Никому не сказывайте, в чем состоит сюжет Мертвых душ, — просил он Жуковского в упомянутом выше письме. — Название можете объявить всем" (XI, 75—76).
Какой же смысл заключался в формуле "мертвые души"? Но вначале — о реальном бытовании этого выражения.
Существует мнение, что до Гоголя оно вообще не встречалось — ни в жизни, ни в литературе. Но это не так.
Известно библейское выражение "живая душа". "И создал господь бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою" (Бытие, 2, 7). Во все времена это выражение было очень популярным, оно применялось к разным случаям и обстоятельствам. В России, между прочим, его относили к Гоголю, к его творчеству. Белинский писал о творце "Мертвых душ", что он умеет "проводить через свою душу живу явления внешнего мира, а через то и в них вдыхать душу живу…"[198]. Провести какой‑либо факт через "душу живу" значит осмыслить его, придать ему личный, субъективный отпечаток, озарить светом человеческого чувства. Живая душа— высшая степень одухотворения, полюс духовности.
Но если так, то существует и противоположный полюс — мертвенности, простирающий свое действие на жизнь и на самое душу. Оксюморонные выражения "мертвая жизнь", "живая смерть" с давних времен встречаются в западноевропейской поэзии, особенно популярны они были в средневековье[199].
Что касается формулы "мертвая душа", то она встречалась в русской литературе и до Гоголя, хотя, по–видимому, и редко. В мистерии В. К. Кюхельбекера "Ижорский", изданной отдельной книгой в том самом году, когда Гоголь начал писать свою поэму, мы читаем:
Тому, чем мог бы быть блаженным я,
Не верит мертвая душа моя[200].
В конце же мистерии возникает библейская антитеза этому понятию. Добрый дух напоминает: бог сотворил не для зла
Того, в кого живую душу —
Свое подобие вложил[201].
Встречаются и более ранние примеры. В анонимном стихотворении "Видение" (1824):
Но мертвая душа душе моей рекла,
И весь я полон был боязненной печали[202].
Труднее ответить на вопрос, употреблялось ли и если да, то насколько часто выражение "мертвые души" в повседневном языке, причем в своем прямом смысле— как обозначение умершего крестьянина. Правда, Д. Мережковский в начале нашего столетия утверждал: ""Мертвые души" — это было некогда для всех привычное казенное слово на канцелярском языке крепостного права"[203]. Правда, В. Даль отметил соответствующее значение в своем словаре: "Мертвые души, люди умершие в промежутке двух народных переписей, но числящиеся по уплате податей, налицо" (статья "Душа"). Но неясно, насколько повлияла на такие представления сама гоголевская поэма.
Вообще‑то возможность употребления словосочетания "мертвая душа" как синонима "умершая ревизская душа" исключать нельзя; но, по–видимому, оно было не столь частым и обычным. Об этом говорит реакция современников на заглавие поэмы. Когда, например, Ф. И. Буслаев впервые услышал название "Мертвые души" (было это в Риме, в конце 1840 или в начале 1841 г.), то оно показалось ему "загадочным" и навело на мысль, "что это какой‑нибудь фантастический роман или повесть вроде "Вия""[204]. Но именно с такой целью — заинтриговать, ошарашить читателя — побуждал Гоголь своих друзей "объявить всем" название книги.
В расчеты писателя входило то, что первоначальные ожидания будут обмануты или, точнее, превзойдены; что лишь по прочтении всей поэмы откроется глубина ее значения, а значит, и названия. Глубина же возникала из взаимодействия различных смысловых планов понятия "мертвые души", так что читатель от одного, более открытого и очевидного плана вынужден был переходить к другому, более скрытому.
Один план, мы говорили, связан с непосредственным смыслом слова душа как обозначения ревизской души, человека податного состояния, крепостного крестьянина. Его продают, выменивают, вручают в качестве презента, проигрывают в карты или в шашки, дают в придачу к жеребцу или к шарманке, — словом, подвергают разнообразным операциям, распространяющимся на любой товар. С человеком поступают так же, как с вещью или животным. Формула заголовка поэмы (разумеется, так же, как ее сюжет и все содержание) выросла на конкретной почве российской жизни— крепостной, феодальной, жестокой, бездушной, отмеченной циничным равнодушием и пренебрежением не только к достоинству личности, но и к самому ее физическому существованию. Отрицать социальное содержание "Мертвых душ" смешно и наивно. Иное дело, что оно шире любой конкретной социальной основы и обладает долговременным, если не вечным, смыслом.
Другой план формулы "мертвые души" предполагает моральный и этический моменты: мертвенность как отсутствие разумных человеческих интересов, как пустота и ничтожность занятий и стремлений. С этой точки зрения неважно, к какому кругу принадлежит персонаж: мертвенность охватывает все сословия — и высшие, и средние, и низшие. Правда, в силу специфического угла зрения первого тома больше всего показано, как поражены этим недугом власть имущие, т. е. помещики и чиновники, — что в сознании современников усиливало социальную тенденцию поэмы. "…Не ревизские— мертвые души, а все эти Ноздревы, Маниловы и tutti quanti[205], — вот мертвые души, и мы их встречаем на каждом шагу"[206], — записывает в дневнике А. И. Герцен. И. В. Киреевский же, явно под влиянием гоголевской поэмы, развивает такую антитезу: "Уезжайте поскорее в глубь России, — советует он А. В. Веневитинову, — хоть на короткое время отдохнуть посреди благородных душ ревизских от духоты мертвых душ, управляющих живыми не краснея"[207].