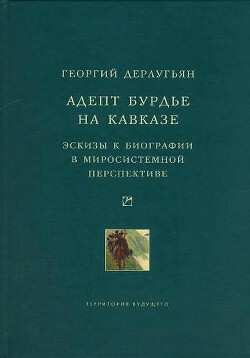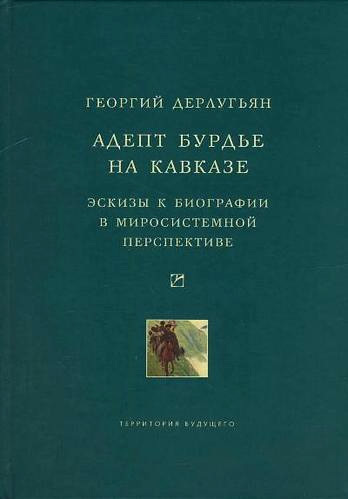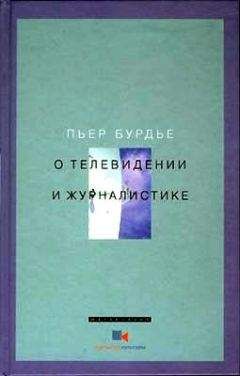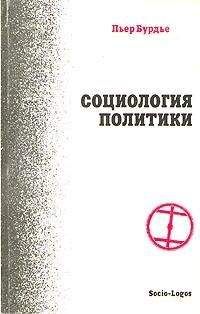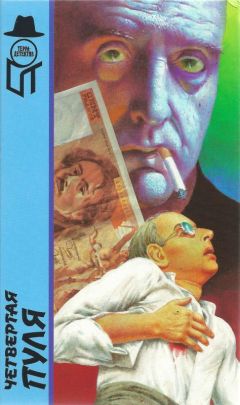Сам он был тяжело ранен дурной (уместнее слова не подобрать) пулей: молодой абхазский часовой у входа в кабинет, где шло совещание, играясь, уронил на пол автомат с патроном, досланным в патронник; на предохранитель автомат, разумеется, поставлен не был, и очередь прошила стену, ранив в ноги Шанибова и абхазского генерала. Местные хирурги рану залечить не смогли, и тогда за дело взялся кабардинский доброволец из Сирии, практиковавший народные снадобья на травах – рецепт, унесенный его семьей с Кавказа во времена мухаджирства. Подобный романтический способ лечения помог было Шанибову нарастить плоть, однако проблемы с поврежденной костью заставили его, затем, провести почти два года в российских военных госпиталях. Там он и стал читателем работ Бурдье, только что впервые переведенных на русский.
Фактически, ранение поставило крест на политической карьере Шанибова. Но даже до этой нелепой случайности он уже многим казался анахронизмом. В Москве Шанибов терял политические связи по мере консолидации власти Ельцина в конфронтации и, окончательно, после разгона Верховного совета. Для краткости скажем метафорично, что изобиловавшие водоворотами течения московской политики оказались слишком мутными и бурными для Шанибова, не сумевшего избежать промахов. Его политическая среда исчезла вместе с аналогичными ораторами от оппозиции образца 1990–1993 гг. В Абхазии и Чечне молодые и напористые полевые командиры прибирали к рукам как планирование операций, так и поступающие финансы. Роль Шанибова (недаром его называли тамадой Конфедерации) свелась к провозглашению идеологических лозунгов и участию в публичных мероприятиях в поддержку Абхазии. Но одних символических ресурсов для обеспечения политической позиции уже явно недоставало, да и война в Абхазии подошла к концу.
Война, пусть не самая большая по масштабам, была очень жестокой и сопровождалась мстительными преступлениями с обеих сторон: грабежи, поджоги, убийства, пытки и изнасилования взвинтили спираль взаимной мести до, казалось, массового умопомрачения. (Сразу хочу подчеркнуть, сказанное относится далеко не ко всем участникам войны. Война, однако, будто бы преднамеренно беспощадна к благородству чувств. Идеалистически настроенной молодежи и студентам, первыми поспешившим на помощь Абхазии, достались и самые тяжелые потери. Сказалась, очевидно, готовность рисковать ради высоких целей. Такие же романтики погибали первыми со всех сторон постсоветских этногражданских войн.) Но даже в самом чудовищном насилии прослеживается определенная логика. Ощущавшие себя загнанными в угол, перед лицом угрозы полного уничтожения, абхазы дрались сплоченно и отчаянно. По той же причине они выказывали порою параноидальную жестокость в поиске шпионов и предателей, особенно среди оказавшихся не по ту сторону фронта грузинских семей и в селах смешанного этнического состава, каковых было очень много. Грузинские шпионы и диверсанты, в самом деле, случались, как и направленные на превентивное запугивание зверства грузинских боевиков, что порождало в абхазах жажду немедленной мести. Но большинство попавших под руку грузин, несомненно, не имело к вторжению прямого отношения, а многие были сторонниками Звиада Гамсахурдия, свергнутого теми самыми боевиками «Мхедриони» и Национальной гвардии, которые теперь бесчинствовали в Абхазии. Абхазская реакция не вдавалась в детали политических предпочтений численно значительно их превосходивших потенциальных и реальных противников. Срабатывал механизм «наступательной паники» (forward panic), когда острое чувство страха, казалось, загнанных в угол людей, вдруг, сменяется возможностью преодолеть страх и минутную слабость нанесением врагу бешеной, крайне эмоционально интенсивной ответной жестокости [322]. Поиски в своем селе предателей и шпионов также скорее сродни архаичной охоте на ведьм – ритуальной борьбе за насильственное очищение социального организма, хорошо знакомой антропологам и историкам средневековой культуры. Это, увы, оборотная сторона крестьянской сельской общины, в силу соседской кооперации и перекрестного родства пронизанной разветвленными отношениями дружбы – что, в периоды кризисов, оборачивается переходом от плюса к минусу, острейшим страхом и насильственным полным отторжением «плохих» соседей [323].
Если насилие со стороны абхазов носило более крестьянский характер, выражавшийся в том числе в «охоте на ведьм», то грузинские формирования в те дни скорее напоминали феодальный рыцарский поход – не в смысле рыцарского благородства, но поведения реальных крестоносцев при захвате Константинополя и Иерусалима. Свидетели злодеяний с грузинской стороны постоянно упоминают высокомерие и презрительно-отстраненное безразличие, с которым творилось зло. Это, скорее, аристократические комплексы. Люди, вероятно, воюют так же, как работают или играют, что в теоретических понятиях актуализирует роль социального габитуса как постоянного принципа в генерировании самого различного рода деятельности – от работы до досуга и войны. Грузинские националистические добровольцы зачастую вели себя на поле боя подобно феодальной знати, соревнуясь друг с другом в зрелищных до безрассудства актах личной доблести. Храбрецы могли выйти покурить под пулями на передовой, устроить пикник в зоне боя – вспомните завтрак мушкетеров при осаде Ля Рошели. По той же причине в повседневной фронтовой работе царили аристократические лень и расхлябанность. Никто не желал натирать руки в рытье окопов или обслуживании и ремонте доставшихся от советских времен танков. Бойцы грузинских отрядов, с которыми я разговаривал вскоре после окончания войны в Тбилиси, Батуми (однажды даже в самолете во время долгого перелета из Нью-Йорка в Москву), с поразительной откровенностью, смешанной с горечью и негодованием (очевидно в качестве психологической компенсации после позора поражения) описывали воинство, которое, в самом деле, трудно считать армией. Употребление наркотиков было едва ли не повальным. Бойцы корпуса «Мхедриони» («Всадники») под командованием харизматично-колоритного бывшего грабителя банков, доктора искусствоведения и неплохого романиста Джабы Иоселиани, охарактеризованные одним из знающих собеседников как «плохие мальчики из хороших тбилисских семейств», по его же словам отличались более изысканными и дорогими пристрастиями к морфинам, в то время как менее элитарные, в массе своей сельские и субпролетарские нац. гвардейцы бывшего скульптора Тенгиза Китовани довольствовались анашой. Значительную часть времени бойцы проводили за вином и яствами, собранными в ближайших домах или отобранными у их обитателей (многие из которых также были грузинами). Приказы оспаривались или не выполнялись из демонстрации собственного достоинства. (Пример: в ответ на приказ отправляться на пост, боец игриво снял с офицера его форменную кепку, нахлобучил ее обратно под общий гогот товарищей, и лишь после того отправился на пост.) В периоды нудного окопного сидения иногда больше половины личного состава подразделений могло попросту уехать отдохнуть домой (по уважительной причине, вроде свадьбы друга), прихватив в подарок «трофейный» ковер, люстру или телевизор.
Но здесь нас в который раз поджидает опасность скатиться к абсолютизации этнической культуры и излишней историзации. Президент Абхазии Владислав Ардзинба, в советской жизни доктор наук и признанный специалист по протохеттской мифологии, вскоре после взятия Сухума фаталистично признал в интервью журналисту, что разграбление захваченных городов является неизбежной традицией войны еще с Бронзового века. Возможно и так – однако это означало также, что иррегулярные отряды боевиков и ополченцев в абхазской и прочих недавних гражданских войнах на территории бывшего СССР не выказали организационной дисциплины, выучки и иерархической сплоченности, отличающих современные вооруженные силы от воинств эпох и стран, не испытавших рационализующей модернизации. Провал был и моральным, и институционным; командиры, которые не могли опираться на профессиональную военную идеологию, субординацию и практику карьерного поощрения своих людей, в качестве вознаграждения дозволяли им насилия и грабежи.