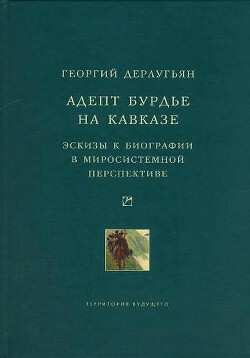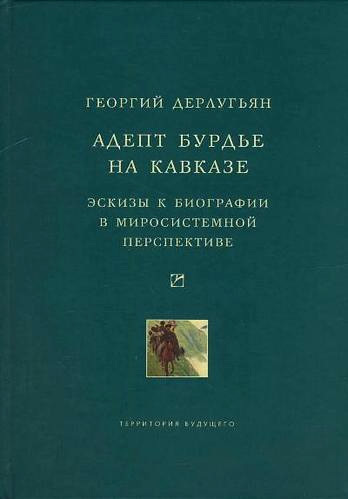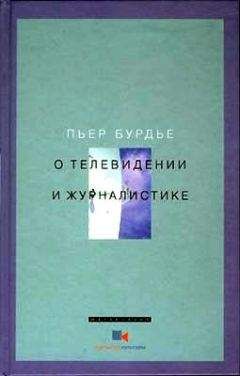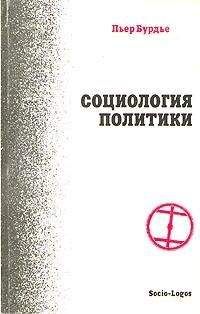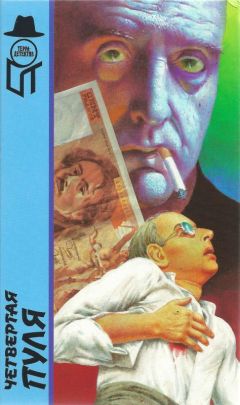К середине 1990-х губернаторы разработали несколько исходивших из местных особенностей, но взаимопересекающихся стратегий для обхода рынка. Здесь нам не стоит задерживаться на рассмотрении частностей, поскольку исход в каждом случае был одинаковым: неопатримониальный политический капитализм протекционистского толка [329]. Выходило, что покуда центральное правительство в Москве номинально выказывало приверженность выполнению требований МВФ по обузданию инфляции и монетарным ограничениям, губернаторы на местах создали множество заменителей денег (чеки, векселя, налоговые расписки местного обращения, платежные обязательства), которые позволяли проводить постоянную девальвацию де-факто и спасли от передела и реформ стоявшие на грани банкротства предприятия. Таким неожиданным образом распад плановой экономики и коммунистической партии не похоронили, а, напротив, подтвердили центральное значение бывших секретарей обкомов и новых губернаторов в ключевых региональных сетях. Эти социальные сети удерживались лишь тем, что можно назвать доверием отчаяния, поскольку заключаемые неэффективные договоренности выглядели приемлемыми лишь в сравнении с тотальным разрушением хозяйства, позиций местных элит и зависимых от них коллективов работников. Скоропалительно набросанные схемы бартерных обменов нарушались бесчисленными конфликтами, повальной коррупцией и бегством множества прихвативших украденное «политических капиталистов» и «силовых предпринимателей» в оффшоры Кипра, Испании и Эмиратов. Вот откуда постоянно звучавшие в дискурсе Кокова и многих других провинциальных руководителей 1990-x гг. призывы объединиться и помнить о местном патриотизме.
В отсутствие действенных судов и правоохранительных органов повсеместно стало процветать предоставление частного права и защиты. Силовые предприниматели возникали из множества социальных групп, обладавших необходимыми сплоченностью и опытом насильственных действий: бывших заключенных, сообщества профессиональных воров, банд «оборотней в погонах», субпролетарских молодежных шаек, нашедших новое применение своим физическим данным и командной спайке спортсменов, этнических мафий. Все они попытались урвать свой кусок от сверхприбыльного пирога частной защиты. Позднее, в конце девяностых, восстановившиеся власти на местах значительно потеснили криминалитет, позволив лишь некоторым выжившим в годы повсеместной стрельбы везунчикам сохранить свою специфическую нишу на нижних уровнях рынка частного права и защиты. Но это пока вовсе не означает торжества закона – профессиональные корпорации сотрудников госбезопасности, правопорядка и связанные с ними официально зарегистрированные частные охранные агентства просто взяли под свой контроль наиболее прибыльные сектора и заняли над– рыночные охранные ниши, ранее захваченные рэкетирами [330]. Какое отношение это имело к политике? Объем откупных и сама доступность защиты от произвола (либо негласная лицензия на произвол) также находились в прямой зависимости от губернаторского либо президентского аппарата.
Теперь мы можем понять, почему после стольких потрясений Валерий Коков остался центральным действующим лицом, в целом, той же самой хозяйственно-политической элиты Кабардино-Балкарии. Подобно многим российским губернаторам, он сумел выстроить мощную сеть патерналистических зависимостей, концы которой сходились у него в кабинете. Еще в 1992 г., когда шанибовские добровольцы уезжали воевать в Абхазию, Коков сумел достичь прочного компромисса с ельцинской администрацией в Москве. Козырной картой в торге с Москвой стала Чечня и угроза дальнейшего сепаратизма на нестабильном Кавказе (с 1998 г. добавится угроза ваххабизма). По мере восстановления множества внутриэлитных договоренностей, Коков преодолевал свой прежний имидж едва не свергнутого коммунистического чиновника, преображаясь в патриархальную фигуру заслуженного государственного деятеля, воплощение местного патриотизма и консерватизма. Более того, теперь в Москве к нему относились как к надежному партнеру (пусть и склонному к культу своей личности). Новая власть Кокова зиждилась на его исключительном положении сразу в нескольких сетях: он был вхож в московские центральные органы власти, откуда добывал политическую и экономическую поддержку (т. е. благосклонность Москвы предоставила Кабардино-Балкарии возможность частично пользоваться доходами России от экспорта сырья и иметь опосредованный доступ к распределению зарубежных кредитов); он имел возможность направлять бартерные и лоббистские выгоды от заключенных с коллегами по Сенату ельцинской эры межрегиональных союзов; он же контролировал чиновников местного аппарата власти, а их посредством и местные потоки ресурсов; наконец, это избирательно-целевой патронаж над группами местного населения в зависимости от их статуса и относительной важности на данный момент. Но и это еще не все. Как и все губернаторы девяностых, Коков тщательно взращивал и опекал нарождавшееся «деловое сообщество» постсоветских предпринимателей. Большинство были все те же хозяйственные номенклатурные кадры либо (и даже скорее) кто-то из числа их близких родственников и подчиненных. Но некоторые в прошлом были студентами и национальными активистами под началом Шанибова. Во время перестройки они стояли у входа в номенклатуру, затем надеялись воспользоваться для следующего взлета энергией волны революционного противостояния 1991–1992 гг., но в итоге соглашались принять сделку с официальным истеблишментом. В девяностые годы стало казаться, что Кокову удалось все, и он закрепился на долгие годы – как правители республик Средней Азии.
Конец пролетариата
К концу советской эры экономика Кабардино-Балкарии основывалась на довольно индустриализированном сельском хозяйстве, здравницах и домах отдыха у источников минеральных вод, цветной металлургии на сырье из местных вольфрамо-молибденовых залежей и нескольких предприятиях всесоюзного военно-промышленного комплекса. Все четыре экономические отрасли непосредственно зависели от контроля и капиталовложений союзного центра (во многом даже дома отдыха, поскольку группы отдыхающих направлялись сюда советскими профсоюзами), и именно поэтому оказались в числе наиболее пострадавших в результате отказа от центрального планирования и перехода к рыночной экономике. Однако кончина центрального планирования вовсе не означала автоматического возникновения рыночных механизмов, поскольку масштаб, характер и специализация советских промышленных объектов вовсе не способствовали легкому проведению приватизации. Что, к примеру, делать с используемым обычно в производстве броневой стали и бронебойных снарядов молибденом, когда российское правительство не могло позволить себе купить ни то, ни другое, а Запад бдительно следил, чтобы ни то, ни другое не стало объектом экспорта в страны Третьего мира?
Обеспечение жизненных потребностей работников теперь почти не работающих производств, даже в сельских областях, оставалось зависимым от рабочих мест. Зависимость эта имела множество материальных воплощений: заработную плату (пусть даже нерегулярно выплачиваемую), предоставляемые колхозами взамен зарплаты корма и удобрения, детские сады при предприятиях, водоснабжение и отопление от теплоцентралей соседних промышленных предприятий и т. д. Зависимость выходила за рамки чисто материальной и охватывала практически все стороны общественной жизни, включая идентичность, социальный статус и ожидания, семейную жизнь и каждодневное общение [331]. Профессиональный капитал пролетариев является коллективно зависимым и привязанным к рабочему месту: ценимый оператор доменной печи должен стоять близко к печи и находиться среди своих коллег. Со времен сталинской индустриализации советские предприятия задумывались в качестве плавилен для трансформации бывших крестьян в современных советских граждан – ядро новых обществ – и, таким образом, в явственное выражение советской цивилизации в действии [332]. Однако по излюбленному выражению Майкла Манна, каждая цивилизация становится клеткой своих субъектов [333].