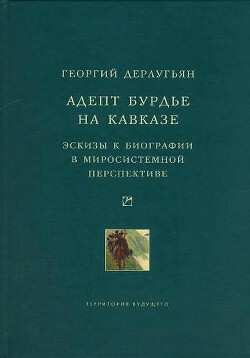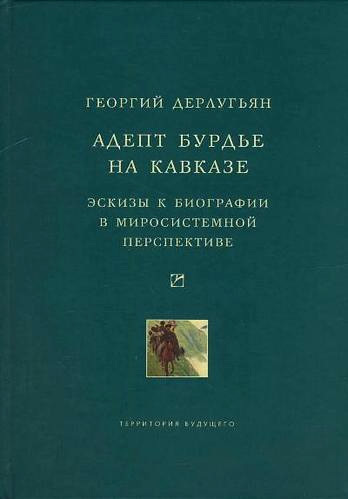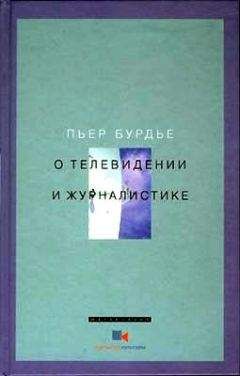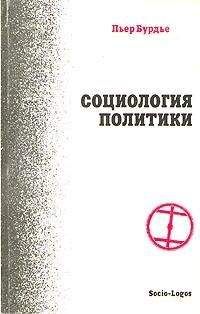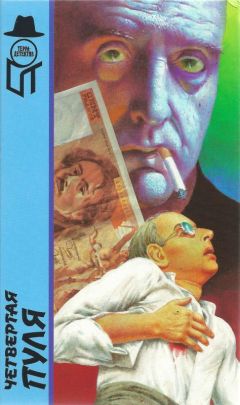Миллионы бывших советских трудящихся не могли и не желали порвать со своим индустриализированным образом жизни. В 1990-x гг. ВНП России упал более чем наполовину (в Кабардино-Балкарии даже больше), по официальным данным в 1991–2000 гг. уровень реальных зарплат снизился на 60 %. Тем не менее рабочие продолжали ходить на предприятия и в учреждения, где им платили унизительно смехотворные зарплаты или не платили месяцами. Забастовки при этом были редки, носили символический характер и, как правило, длились не более трех дней. Старые заводы продолжали работать на четверть или половину своей мощности, причем как без качественного перевооружения технических мощностей, так и без перемен в стиле управления [334].
Чтобы хоть как-то смягчить последствия повсеместно распространенной вопиющей бедности, задействовались три механизма компенсаций (хотя все они толкали пролетариев к субпролетарским условиям существования). Первым было подсобное приусадебное хозяйство на маленьких клочках земли вокруг городов и во дворах частных домов – пасущихся коров можно было видеть даже на центральных улицах Нальчика. Вторым была расцветшая буйным цветом «челночная» торговля с заграницей. Как только стало возможным чартерными рейсами отправляться в Стамбул, города Китая или беспошлинную зону Эмиратов, от тридцати до сорока миллионов (!) российских граждан, преимущественно женщин, стали огромными сумками ввозить дешевые товары для последующей перепродажи на вещевых рынках. Этот вид предпринимательства был ненадежным и зачастую опасным, однако оставался одной из редких возможностей как-то заработать на жизнь. Третьим компенсационным механизмом были разнообразные формы взаимопомощи у родственников, соседей и друзей. Однако необходимые для нее сети могли разрушаться, что отражается в звучащих повсюду жалобах на то, что отношения с друзьями и родственниками (в Нальчике эти категории охватывают крайне широкие круги) ныне не являются столь тесными и прочными, как прежде.
Данные социологических опросов 1990-x гг. регулярно показывали, что в национальных республиках, как и в русских областях и краях Российской Федерации, основной причиной обеспокоенности населения (40–50 %) являлся экономический спад [335]. Вслед за ним идут в различной последовательности обусловленные социальной нестабильностью уличная преступность (хулиганство), ухудшение уровня образования, нестабильность работы и карьерного роста, кражи, распад семьи, плохое здоровье и старость. Примечательно, что озабоченность сохранением национальных культур, а также возрождение религиозных ценностей следуют далеко позади – на уровне около 10 % или немногим менее.
Здесь-то мы и сталкиваемся с парадоксом – подавляющее большинство населения озабочено экономическими и социальными проблемами, однако крупные протестные акции случаются редко и, как правило, оказываются не социальными, а националистическими. Неверно сказать (хотя нам часто приходится это слышать), что эти люди апатичны, что им недостает гражданского самосознания, что они провинциальны, вороваты, неспособны к совместным действиям. Это неубедительные стереотипы. Всего лишь несколькими годами ранее те же люди весьма активно участвовали в дебатах и протестных событиях перестройки. Почему же они вдруг утратили веру в политику и интерес к дебатам? Частично, ответ состоит в том, что СССР развалился, а в то же время вроде бы и нет. Многое стало хуже, кое-что улучшилось (доступность импортного ширпотреба и продовольствия), но в целом окружающий мир остался привычно узнаваемым – только как-то подкосился, вынудив людей искать индивидуальные, семейные и частно – коррупционные стратегии выживания и решения возникших проблем. Население в какой-то момент перестало воспринимать себя народом и классами, оно атомизировалось, стало фаталистично покорным либо безразлично разочарованным во всякой политике. Эмоциональных поводов и организационных авангардов для возникновения мобилизующего чувства общности стало меньше. Насколько меньше и почему – задача, которую мы здесь не решим, но ее надо обозначить для будущих исследований. Скажем, вместо идеологических сетований публицистов, стоило бы обратить аналитический взор на то, как социально-психологические комплексы согласуются с изменением или преемственностью структур повседневности. Благодаря бартеру и прочим патерналистско-защитительным действиям губернаторов, массовой открытой безработицы так и не возникло, забастовки или народные протесты оставались минимальными, рутина повседневной жизни истончилась, но сохранилась непрерывной. После обрушения советской власти и шквала рыночных реформ, страна вернулась к повседневности, странным образом напоминавшей дни брежневизма – что Майкл Буравой окрестил «индустриальной инволюцией» России [336].
Основная же часть объяснения, вероятно, состоит в том, что внутриэлитная политика новой эпохи, ставшая непрозрачной и безыдейной, и притом явно корыстной, оставила у большинства постсоветского населения ощущение обманутых надежд, беспомощности, и, как ответной реакции – цинизма (увы, далеко не безосновательного). В девяностых круг политических соперников резко сузился до неономенклатурных чиновников и олигархических предпринимателей. Интеллектуалы и пролетарии более не значили ничего – ни в качестве протестной массы, ни как производители материальных или символических товаров. Прибыль и власть отныне создавались не в областях промышленного производства, а путем связанных с глобальными потоками торговых обменов и финансовых спекуляций. Устраивать революции стало некому, незачем, не из кого. Дискредитированными оказались все масштабные программы мобилизации: социалистическое догоняющее развитие, пролетарская социальная демократизация, борьба за обретение национальной независимости и неолиберальное обещание рынка – все они прошли чередой за прошедшее десятилетие, чтобы каждое из них обернулось жесточайшим разочарованием. Ведущие общественные классы, когда-то бывшие в авангарде социальной мобилизации – капитаны промышленности и реформистская номенклатура, интеллигенция, специалисты, индустриальные рабочие – казалось, исчезли вообще или навсегда погрузились в бессильное, не находящее слов молчание.
Откат на периферию
Оглянемся на то, что мы наблюдали в этой и предыдущей главах. Парадоксальным образом, резкое ослабление деспотического государства ускоренного развития сделало практически невозможным его реформирование – потеря управляемости исключала проведение сложных маневров с заржавевшей, а затем и развалившейся машиной, чьи «винтики» обрели собственные стратегии. Без государства, не менее парадоксально, оказалось невозможным и закрепление гражданских обществ. Составлявшей их интеллигенции и специалистам помимо чтения запоем публицистики и хождения на митинги прежде требовалось где-то получать источники к существованию и статусные позиции для формирования достойных идентичностей. После 1991 г. все это вдруг сделалось унизительной неопределенностью. В условиях дезорганизации оказалось крайне трудным, если не совершенно невозможным, демократизировать системы государственного управления и перенацелить экономические активы на достижение общественно рациональных целей. Созидательные программы подобного рода потребовали бы сильных институциональных основ и ясного, долгосрочного политического видения [337]. Происходил же ровно обратный процесс катастрофически быстрого сжатия горизонтов. В надвигающемся хаосе задачи стали ограничиваться самыми ближними пределами как в смысле резко сжавшегося горизонта времени, так и крайней узости и причудливой нестойкости человеческих групп, вовлеченных в социальное взаимодействие. Иными словами, и старая номенклатура, и питавшие большие надежды интеллигентские оппозиционеры, и зарождающийся слой частных предпринимателей могли преследовать лишь самые непосредственные, сиюминутные задачи, и при этом надеяться лишь на круг знакомых, сослуживцев, родственников, или подчиненных личных клиентов. Доверие стало сильно зависящей от обстоятельств переменной величиной. Вот почему составные части политической мозаики зачастую стали складываться на традиционной основе географической и этнической общности.