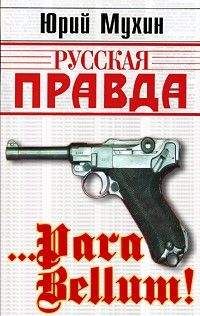Среди отправленных на расстрел были 11 генералов, контрадмирал, 77 полковников, 197 подполковников, 541 майор, 1441 капитан, 6061 поручик, подпоручик, ротмистр и хорунжий, 18 капелланов и других представителей духовенства.
Те, кого отправляли «в распоряжение УНКВД», не догадывались о том, что их ждёт. Комиссары лагерей сообщали С. В. Нехорошеву, а тот — трём заместителям наркома внутренних дел, что в связи с отправкой настроение военнопленных приподнятое. Лишь в те дни, когда отправок из лагеря не было, поляки проявляли беспокойство, опасаясь, что их могут не отправить, как они полагали, на родину. Люди обращались к лагерному начальству с просьбой ускорить их отправку (см. № 40, 53). Старшие офицеры рекомендовали своим коллегам, уезжавшим из лагеря с первыми партиями, делать в вагонах надписи с указанием конечной станции, чтобы последующие этапы знали, куда их везут. 7 апреля при возврате вагонов была обнаружена фраза на польском языке: «Вторая партия — Смоленск, 6.IV.1940». Естественно, тут же был отдан приказ тщательно осматривать вагоны и все надписи смывать. Однако, судя по дневниковым записям, найденным в катынских могилах, некоторые послания своих предшественников офицеры всё же прочли.
Приподнятое настроение в связи с отправкой наблюдалось и у большинства военнопленных из Осташковского лагеря. Почти все рядовые полиции были уверены, что едут домой. Некоторые, правда, сомневались в этом. При выходе из лагеря выбрасывали в спичечных коробках записки, что при осмотре перед отправкой ищут оружие; личные вещи и ценности не отбирают; принимаются все претензии; обращение вежливое, однако невозможно понять, куда их отправляют (см. №№ 40, 53).
Выводы политдонесений С. В. Нехорошева и комиссаров трёх лагерей о том, что подавляющая масса военнопленных была уверена в своей отправке домой, стремилась поскорее уехать, что офицеры сами обращались к администрации с просьбой попасть в ближайший этап, подтверждаются и катынскими дневниками, и воспоминаниями тех, кому довелось уцелеть.
Подпоручик Анжей Ригер, включённый в наряд на отправку № 042/2, пункт 56, писал в своей записной книжке:
«ЗЛУ. Убывает первый этап, более 70 человек. Теряемся в догадках: куда?… 5.IV. Скверно, холодно, всё время этапы. Уезжает Мушиньский. Играю в шахматы. Настроение подлое/…/. 6.IV. …К нам приходит „Скит“. Как будто раздела Польши уже не существует. Дальнейшее море сплетен — куда едем — домыслы, дискуссии — переменчивое настроение… 10.IV. Скверно. Этапы не идут. Настроение безнадёжное. Дискуссия на тему Норвегии, не играем в бридж и шахматы, так вот. 11. IV. Утром холодно, затем прекрасное солнце. Едет Станкевич… Безнадёжно. Когда же, наконец, возьмут и меня? Уходит большой этап… 14. IV. Настроение слабое. Хотя бы шел этап!.. 17. IV. Грустно! Загораю. Почему же я ещё не еду? Появляется надежда на выезд в нейтральное государство… 18.IV. Завтра этап — значит, есть надежда… 19.IV. Идёт большой этап… Я упаковался тщательно. К сожалению, напрасно… 20. IV. День тёплый, но туманный. Идёт этап. Едет Вацек Южиньский. Мне делается очень муторно. Так бы хотелось уехать. Бельё загрязняется. Что делать „вообще“? Я не уехал. Это меня взбесило… Осмелился посетить легендарного Александровича… 22. IV. Погода так себе. Временами солнце. Бреюсь. Выезд из Козельска. Обыск. Доезжаем до Сухиничей, где торчим до трёх. Едем в ужасных условиях. 23.IV. Ночью дождь и гроза».
Здесь записи обрываются…
Ю. Чапский в своих мемуарах отмечал, что в апреле, когда стали вывозить людей, многие верили, что едут на родину. Поскольку в этапы включали военнопленных разных возрастов, званий, профессий, политических убеждений, невозможно было понять принцип отбора.
«Каждая новая партия сбивала нас с толку. Едины мы были в одном: каждый из нас лихорадочно ожидал, когда объявят очередной список уезжающих (может, в списке будет и моя фамилия). Мы называли это „часом попугая“, поскольку бессистемность списков напоминала карточки, которые в Польше вытаскивали попугаи шарматциков. Комендант лагеря подполковник Бережков и комиссар Киршон официально заверяли старост, что лагерь ликвидируется, а мы направляемся на родину — на немецкую или советскую территорию».
Те, кого отобрали в Юхнов, находились в Старобельске до 20-х чисел апреля, а некоторые: — до 12 мая. Как же они завидовали «счастливчикам», уехавшим от постылой проволоки в широкий мир! «Если бы они знали, кому завидовали», — добавляет Чапский.
Ожидание отправки обостряло тоску по родным и близким, с которыми военнопленные были разлучены уже десять месяцев. Добеслав Якубович писал в дневнике, обращаясь к жене:
«2. IV. /…/ Что-то висит в воздухе, милая Марыся. 3.IV. /…/ Вывезли. От нас забрали Войцеховского. Эх, Марысечка… 4.IV. /…/ Неизвестно куда, зачем. Люблю тебя, Марысечка. 5.IV. Продолжают вывозить… Ничего не известно, куда нас опять везут… 6.IV. Сегодня вывозить прекратили — Марысечка, хоть бы письмо получить от тебя. 7.IV. Опять вывозят. Я видел плохой сон, Марысенъка. У нас утром был молебен. 8.IV. Вывозят, Марысенька, моя милая, если бы я мог тебе сообщить, что тоже выезжаю, так жду от тебя письма. 9.IV. Вывозят. Увезли всего 1287. Интересно, когда дойдет очередь до меня и куда я поеду, Марысенька. 10.IV. Перерыв. Ночью известие об оккупации Дании, боях в Норвегии с немцами. Посмотрим, что делать… 11.IV. Интересные новости, Марысенъка, не известно, что я, как и куда, можно только предполагать, милая. 12.IV. Вывозят. Очень тоскую по тебе, дорогая Марысенька. 13.IV. Перерыв. Так хотелось бы у видеть тебя, любимая, с Боженкой… 14.IV. Перерыв. Хандра меня мучает, Марысенъка, любимая, и плохо себя чувствую… 18.IV. Перерыв. Что сделаешь, Марысенъка, может переживаешь за меня, любимая, дорогая. 19.IV. Вывозят. Были письма, я не получил, Марысенька, прекрасная моя… 21.IV. Сегодня после обеда меня взяли — после обыска — автомобилем на левую железнодорожную ветку — в тюремные вагоны — в отделении вагона 15 человек за решёткой. 22.1 V. В 1. 30 поезд тронулся. 12 часов — Смоленск».
И вновь записи обрываются. Увидеться с горячо любимой Марысей Добеславу Якубовичу так и не довелось.
В политдонесениях комиссаров лагерей и УПВ фиксировались также призывы военнопленных, их прощальные напутствия: «стойко держаться в будущих боях за великую Польшу; что бы с нами ни делали, Польша была и будет». В одном из блоков военнопленный зачитывал составленное им воззвание: «Держаться стойко за честь польского офицера, за будущую великую Польшу». С. В. Нехорошев сообщал, что к ним поступает большое количество заявлений с просьбой не отправлять их на территорию, контролируемую Германией, но оставить в СССР. Однако он преувеличивал: заявления подобного рода писали главным образом офицеры запаса еврейской национальности, понимавшие, какая судьба им уготована в рейхе. Комиссар УПВ вынужден был оговориться, что «кадровый офицерский состав польской национальности заявлений оставаться в СССР не пишет». Приводились и рассуждения поляков об их намерении отомстить СССР, участвовать в походе против него после разгрома Германии (см. № 40).
«Передовой отряд контрреволюции Запада» — польских офицеров, полицейских, чиновников, членов политических партий — следовало ликвидировать, ибо они были естественным и действенным союзником Англии и Франции, готовивших удар против СССР в районе Кавказа. Польские офицеры и полицейские намеревались развернуть повстанческое движение в присоёдиненных в 1939 г. к СССР землях — такова была, по-видимому, официальная аргументация, оправдывавшая расстрельную акцию в глазах её исполнителей (см. № 40).
Из политдонесений явствует, что сами палачи в ходе «операции по разгрузке» лагерей и тюрем теряли человеческий облик, спивались, некоторые из них впоследствии кончали жизнь самоубийством.
В операции по расстрелу польских военнопленных и заключённых участвовало большое количество работников НКВД — его центрального аппарата (1-й спецотдел, 2-й, 3-й, 5-й отделы ГУГБ, ГЭУ, ГТУ, ГУКВ, УПВ), НКВД Украинской и Белорусской ССР, УНКВД трёх областей, специальные расстрельные команды из Москвы и местных внутренних тюрем НКВД, конвойные части, войска НКВД. Однако более 50 лет все эти люди хранили молчание. Никто из них не осмеливался, да и не желал поведать миру об этой страшной тайне. Ведь они были соучастниками этого злодейского военного преступления. Нам известно лишь об одном человеке, посмевшем нарушить приказ о сохранении в строжайшей тайне всего, что было связано с отправкой военнопленных из лагерей. Политконтролер (цензор) Старобельского лагеря Даниил Лаврентьевич Чехольский предпринял попытки сообщить жёнам польских офицеров об «убытии» их мужей из Старобельска (см. № 97). По приказу УПВ 23 июля он был уволен из лагеря. Дальнейшая судьба его неизвестна. Некоторые письма, отправленные Чехольским, дошли до адресатов, большую часть перехватила цензура.