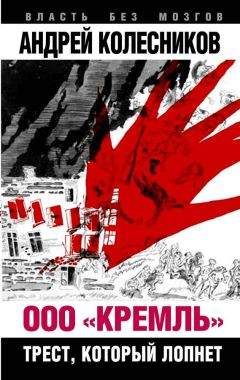Будучи леваками, они одновременно демократы и сторонники политической свободы. Власть, будучи на самом деле левой, что подтверждается трогательным ее единством с официозными коммунистами и как бы социалистами, призывающими ввести советск… пардон, российские войска на Украину, авторитарна. И в этом ее принципиальные «стилистические разногласия» с теми, кого судебная система готова закатать на долгие годы в лагеря.
Власть транслирует свое мнение сверху вниз. И подлинное «болото» (не путать с участниками Болотной), у которого нет своего мнения, ретранслирует и распространяет, как круги по воде, позицию начальства как свою собственную. Поэтому, согласно данным Левада-центра, закон об НКО – иностранных агентах поддерживается в пропорции 49 % – за, 20 % – против. Поэтому закон против «гей-пропаганды» поддерживается в пропорции 68 % к 7 %, а закон об оскорблении чувств верующих в пропорции 55 % к 9 %.
Но при этом – и здесь нет противоречия, потому что в головах россиян нередко мирно уживаются вроде бы несовместимые вещи – мотивы власти, затеявшей «болотное дело», большинству более или менее ясны. Осенью прошлого года, по данным Левада-центра, версию о необходимости наказать участников «беспорядков» 6 мая поддерживали 35 % респондентов, а предположение, что таким образом власть собирается устрашить оппозиционно настроенную общественность, было близко 55 % опрошенных.
Противоречия же нет потому, что цель устрашения нонконформистов разделяется теми, кто является конформистом.
Таких было немало и, судя по всему, после Крыма стало катастрофически много. Поэтому и первую волну «узников Болотной» наказали несоразмерными содеянному сроками (если это «содеянное» вообще имело место).
Нарочитая жестокость судебной власти и политизированность приговоров стали четкой демонстрацией того, что режим, родившийся 6 мая 2012 года, предельно внятен в своей репрессивной природе.
Приговором в отношении Ходорковского когда-то припугнули и заставили замолчать элиты, приговором в отношении «узников Болотной» – всю страну. Раньше это называлось стабильностью. Теперь – консолидацией.
2014 г.
Когда мы говорим о беспрецедентности уличных протестов, «оранжевых революций», движений «Оккупай» и «арабской весны», забываем не только о тектонических революциях конца 1980-х, но и о событиях 1960-х. Они были отмечены мощным контркультурным пафосом, разными типами сопротивления, от хиппи до группы Баадера – Майнхоф, освободительным движением в бывших колониях, началом диссидентского движения в странах советского блока и собственно в СССР, Пражской весной, парижским маем 1968-го.
Модели поведения если и меняются, то лишь сообразно обстоятельствам времени и места. Причины таких волн – разные.
Но если применять самую крупную оптику, то получается, что «человек бунтующий» становится провозвестником нового типа устройства государства и общества.
Тот же май-1968, казалось бы, завершился ничем, а на самом деле не только Франция – западный мир стал другим, более свободным и раскованным, менее иерархичным и лицемерным. Именно в 1968-м, если применять ту самую историческую оптику, стало очевидным, что коммунистическая система в долгосрочной перспективе обречена.
Волна, пришедшая спустя 40 лет после протестов 1960-х, стала симптомом того, что мир снова – и достаточно радикально – меняется, пусть и не в ту же секунду. С социологической точки зрения происходящее свидетельствует о возрастающей роли средних классов, о недостаточной легитимности режимов разного типа, о чрезмерном социальном неравенстве и дефектах механизмов перераспределения богатства, о проблеме национализма, поднявшейся на фоне очередного великого переселения народов.
И это общемировые проблемы, а не только изъяны режимов разной степени авторитарности.
События в Гонконге, которые, казалось бы, выдыхаются, как когда-то сошел на нет и «болотный» протест в Москве, свидетельствуют о том, что власть почти нигде и никогда не идет на уступки.
Очевидная несправедливость – слишком массовые, чтобы остаться незамеченными, фальсификации выборов в России и наглядно-плакатные нарушения обещаний, данных при передаче власти в Гонконге от англичан китайцам, касающихся системы выбора главы этого анклава, – никого не трогает. Никаких переговоров, в лучшем случае – ожидание выпускания пара, взятие измором. Государственный измор сильнее – хотя бы потому, что чиновники и полицейские не ночуют в палатках.
Там же, где протест мощнее, отчаяннее и брутальнее, где он становится, пусть и на короткое время, сильнее власти, «человек бунтующий» тоже не идет на уступки, его уже не удовлетворяет готовность государства провести досрочные выборы и демократизировать систему.
«Человек бунтующий» тоже идет до победного конца, как это было в Киеве или в некоторых арабских странах.
Условный Майдан отличается от условного Гонконга не национальной культурой или уровнем образования протестующих, а тем, что в одном случае до победного конца идет улица, в другом – власть. Объединяет их лишь отсутствие способности двух противоборствующих сторон к компромиссу.
Опыт компромиссов и уступок в истории протестов все-таки был.
В 1980-м польские власти выполнили требования забастовщиков Гданьской верфи, хотя уже в 1981-м было введено самоубийственное для власти военное положение. А в 1989-м был «круглый стол» и передача власти «Солидарности» – тем, у кого она уже и так была де-факто, хотя и не де-юре.
Задолго до этого, в 1970-м, Гомулка подавил забастовку рабочих. Дело кончилось жертвами, да и сам глава ПОРП стал жертвой: после инфаркта он был смещен со своего поста. А пришедший ему на смену Герек пошел навстречу требованиям рабочих. Почему же?
Потому что он сам был первым секретарем «рабочей» партии, новым лидером, лидером-популистом, желавшим нравиться всем.
Но тогда же стало очевидным, что просто Польша стала другой: зерно «бархатных революций» за 20 лет до того, как они созрели, шевельнулось под бетонной плитой системы.
30 мая 1968-го де Голль вроде бы пошел на уступки, распустил Национальную ассамблею. Но уже в июне голлисты выиграли выборы. Хотя, повторимся, Франция уже стала другой.
Грандиозную демонстрацию сторонников де Голля в Париже можно было счесть предтечей манифестаций на Поклонной горе в Москве. Если бы не два принципиальных отличия: никто не сгонял людей на площадь Согласия и, кроме того, эти люди выступили не за слабую и озлобленную, страдающую от дистрофии легитимности власть, а в поддержку власти гиперлегитимной, за лидера, который не позволил бы в принципе мириться с фальсификацией чего-либо и когда-либо.
Получается, что сегодняшняя глухота условных «революции» и «контрреволюции» не то чтобы новое явление. Но чрезмерная неуступчивость, нечувствительность, непоследовательность, чреватые «эксцессами исполнителей» с обеих сторон, скорее соответствуют ожесточенности XIX века, чем «постиндустриальной» сути начала XXI столетия.
Другой разговор, что революция – штука длинная, многофазовая, не обязательно кровавая и еле видная через пелену дыма горящих шин. Крот истории роет – в этом и есть революция.
И студентов Гонконга – интеллигентных и дисциплинированных – никогда не устроит архаичная, взятая напрокат из далекого прошлого система выборов. («Всем бы таких испорченных детей», – сказал гонконгский магнат Джимми Лай.)
Как не устроит российский образованный класс отсутствие представительства во власти современной России. Ему нужна страна, не просто обращенная внутрь себя («Россия сосредотачивается»), а смотрящая в свое прошлое широко раскрытыми глазами.
2014 г.
Последними словами умиравшего Андрея Синявского, по свидетельству его друга Игоря Голомштока, были: «Идите все…» Что логично в устах человека, которого травили всю дорогу на родине, потом посадили, а затем начали травить и в эмиграции за стилистические разногласия с Солженицыным и прочими авторитетами. Это вам не Гёте, потребовавший перед кончиной «больше света»…
Синявский был автором предисловия к знаменитому «синему» тому стихотворений Бориса Пастернака, вышедшему в Большой серии «Библиотеки поэта» в 1965 году. По счастью, до ареста Андрея Донатовича, иначе бы этот том не увидел свет. И умеренно травимый даже после смерти Пастернак попал бы под нож вместе с его почитателем-литературоведом.
Нынче Борис Леонидович Пастернак снова провинился перед властью: в его, в общем, счастливую постсоветскую судьбу вторглись бойцы слабовидимого фронта.
ЦРУ нашло время и место, чтобы сообщить о том, что изданиям и переизданиям «Доктора Живаго» способствовала американская спецслужба.