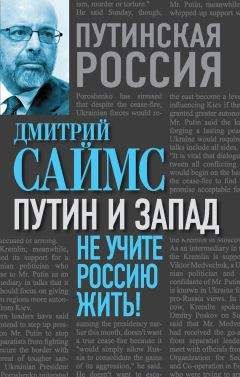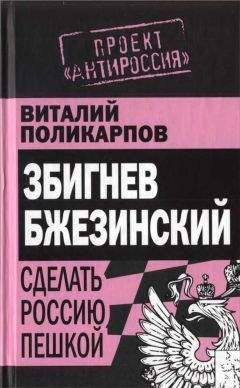— Я на это отвечу. Во-первых, Германия и Япония были американскими врагами, с которыми Соединенные Штаты вели тотальную войну на протяжении нескольких лет. И, прямо скажем, не только Германия и Япония потерпели сокрушительное поражение, не только они сдались на милость победителя, но большинство населения настолько устало от этой войны, что было готово практически на любые условия, только бы вернуться к нормальной жизни. Это первое.
Второе — это то, что американцы именно потому, что это были бывшие тотальные враги, были готовы иметь там крупные оккупационные силы на протяжении длительного времени и тратить очень большие деньги, для того чтобы эти государства стали демократическими союзниками Америки.
Кроме того, в тот период была еще одна великая держава — Советский Союз. И не только Япония и Германия были тогда нужны Америке в качестве союзников, но и сами эти страны видели в Соединенных Штатах защитника против Советского Союза. Все это способствовало успеху демократического эксперимента в Германии и Японии.
Кроме того, и в той, и в другой стране были свои демократические традиции, традиции свободного рынка, не в той мере, в которой они, допустим, были в Америке или во Франции, но они были. А распространять демократию на районы, которые никакого демократического опыта не имеют, мне кажется, это занятие не только опасное, но и неблагодарное. Потому что, например, вы можете обнаружить, что те люди, которые придут в результате этой демократии к власти, окажутся радикалами с крайне антиамериканскими настроениями.
Приведу пример Египта. В Египте есть большие проблемы с демократией. Но вот у меня четкое впечатление, что если бы там провели выборы, то на место президента Мубарека пришли бы не реформаторы-либералы западного типа, а мусульманские экстремисты или по крайней мере мусульманские группы с сильной антиамериканской и антиизраильской ориентацией.
Я считаю, что Америка должна уважать свободный выбор других народов. Но вот толкать тот же Египет в направлении создания антиамериканского правительства — такая логика мне понятна.
— Я хотел бы обратить внимание на такой момент: вы сказали, что в Америке существует гражданская религия. Известно, что религии бывают двух типов. Бывают религии мессианские, в которых изначально заложен заряд их распространения, и бывают религии немессианские, такие как иудаизм, буддизм, в значительной степени, кстати, православие. В Америке с самого начала, хотя были люди, которые относились к этому с осторожностью, существовал заряд мессианизма.
— Мессианизм существовал всегда в американской гражданской религии свободы, как существовал в христианстве, в исламе. Но это лишь одно из течений. Недавно я перечитывал мемуары президента Ричарда Никсона и обратил внимание на его выступление по советскому телевидению в 1959 году, когда он посещал Американскую выставку в Москве. Ему предоставили возможность выступить по советскому телевидению. И он сказал в ходе этого выступления, что не имеет ничего против того, что Советский Союз верит в предпочтительность советской системы и что этой системе принадлежит будущее в мировом масштабе. Все, что Соединенные Штаты хотят от Советского Союза, — это чтобы не было попыток распространять свою систему на остальной мир, навязывать эту систему другим народам и чтобы СССР признал, что отношения между государствами должны строиться на понятии уважения к суверенитету других стран.
Эта идея не была уникальной идеей Никсона. Это была идея Джорджа Вашингтона, это была идея даже такого динамичного и волевого американского президента, как Рузвельт, это была идея Дуайта Эйзенхауэра.
В эпоху Рейгана мессианизм стал выглядеть как одна из ведущих сил реальной американской политики. Но при президенте Рейгане это было больше на уровне риторики, которая в значительной мере была направлена не на то, чтобы как-то запугать Советский Союз, а чтобы повлиять на американского избирателя, чтобы покончить с вьетнамским синдромом, чтобы сказать американскому избирателю: страшное время сомнений и самобичевания закончилось, мы верим в свободу, у нас есть цель, у нас есть ресурсы, наше дело правое, мы победим.
На уровне конкретной американской политики все было сложнее. Была, конечно, речь Рейгана «Империя зла», но, во-первых, это была речь перед христианскими проповедниками, где такая абсолютистская терминология вполне естественна. Во-вторых, я эту речь перечитал. По нынешним понятиям она очень умеренная, потому что в ходе этой речи Рейган говорит, что как бы мы ни называли друг друга («Советский Союз тоже называет меня империалистом»), это не означает, что мы должны вмешиваться во внутренние дела друг друга и что мы не можем совместно работать. Кстати, одна из первых вещей, которую сделал Рейган как президент, — отмена эмбарго, которое ввел в свое время Картер, на продажу зерна Советскому Союзу.
Я думаю, что мессианские мотивы действительно стали ведущей силой американской внешней политики при Клинтоне. Причем я виню не столько Клинтона, сколько новые настроения в обеих политических партиях Соединенных Штатов после распада Советского Союза, когда вдруг неожиданно стало ясно, что Америка стала единственной сверхдержавой, и когда казалось, что Америка может, что называется, «ходить по воде, не сильно замочив ноги», не расплачиваясь за это удовольствие большими деньгами и тем более большой кровью.
Мне кажется, что сейчас, после иракского кризиса, по этим мессианским настроениям нанесен существенный удар.
— Как вы могли бы прокомментировать распад СССР? Мы говорили на эту тему с разными людьми. Пожалуй, самым интересным мне показался ответ Киссинджера, который сказал, что он всегда был уверен, что распадется глобальная советская система, но никак не ожидал распада СССР (Прибалтику мы оставим за скобками). Ваше впечатление от того, как это происходило? Насколько, с вашей точки зрения, закономерна именно такая траектория падения коммунизма, связанная с распадом страны?
— Это очень интересный вопрос. Почему в Америке никто не смог предсказать, включая и меня, естественно, действия Горбачева и как далеко зайдет падение коммунизма, распад Советского Союза?
Причина простая. Еще в середине 70-х годов некоторые из нас, в том числе и я, начали говорить о том, что, когда в России придет к власти новое руководство, когда появятся новые люди, которые одновременно могут говорить и делать, неизбежно появится сильный реформаторский импульс, и в России начнутся большие перемены. Я в этом не сомневался, и я про это говорил и писал.
Но большинство из нас исходило из того, что на каком-то этапе эти реформы натолкнутся на объективную реальность. На ту объективную реальность, на которую натолкнулись реформы Александра Второго: невозможно уничтожать основные опоры империи, без того чтобы империя не рухнула.
И я всегда помню выражение Витте о том, что России после Петра Первого нет, а есть Российская империя. И разрушение российской империи — это уничтожение своего собственного государства.
Мне было очень трудно предположить, что такой человек, как Михаил Горбачев, который вырос в советской системе, который знал прекрасно правила игры внутри этой системы, потому что иначе он не оказался бы Генеральным секретарем и не сумел бы переиграть своих оппонентов, будет обладать уникальной куриной слепотой и не поймет, что, когда ты разрушаешь идеологию, когда ты разрушаешь партию, когда ты разрушаешь КГБ, ничего не построив взамен, и при этом еще отказываешься применять силу, ты неминуемо приведешь к тому, что все здание империи рухнет.
Я считал, что нужно было отпустить Балтийские республики. Я считал так по многим причинам. Если бы это было сделано быстро и безболезненно, то это могло бы сохранить Советский Союз. На Балтийские республики давили, но при этом ничего не были готовы сделать, и это создавало впечатление, с одной стороны, что режим сохраняет какие-то тоталитарные иллюзии, а с другой стороны, что это — слабак, неготовый провести черту на песке. Я хорошо знал тогда Ландсбергиса. Я познакомился с ним, когда он еще не был даже председателем сейма. Он произвел на меня очень сильное впечатление как человек стальной воли и большого прагматизма. И я помню мои разговоры с ним у себя дома, когда он мне говорил, что вот если бы Советский Союз был готов гарантировать Литве независимость в обозримой исторической перспективе, но именно гарантировать, то все остальные вопросы можно было бы разрешить. У него было только одно требование, в котором он не пошел бы на компромисс: Литва должна стать независимым государством. По поводу всего остального, включая пребывание российских баз на литовской территории и союзнические отношения между Литвой и Советским Союзом, он уверял меня, что у Литвы была бы очень большая гибкость.