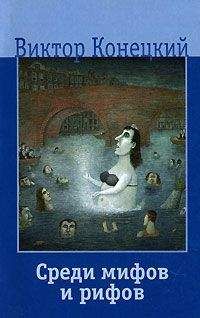В бурное время конца перестройки и начала 1990-х годов этот момент остался без внимания, а сейчас стоит о нем напомнить. Тогда сам выбор советского проекта поминали неодобрительно практически все «организованные политические силы», весь «союз красных и белых», не говоря уж о «демократах». Даже КПРФ объявляла себя «партией Жукова и Гагарина» — выковыривала из истории приятные образы как изюм из булки. Я, по службе считаясь «аналитиком», общался тогда с представителями всех этих «сил». И в беседах, иногда очень доверительных (особенно в командировках, за рюмкой или стаканом), я пытался навести разговор на такую тему. Вот, вы отвергаете именно сам выбор советского пути развития. Условия выбора известны, расстановка и баланс сил — тоже. Все альтернативные проекты (Столыпина, кадетов, Колчака с мировой закулисой) были также известны и испытаны. Сейчас, с уровня вашего знания, скажите, с кем бы вы в тот момент были?
И никто из тех, с кем я смог лично или через тексты «поговорить» — ни реформаторы из группы Гайдара (из ЦЭМИ АН СССР), ни Шафаревич, ни Зюганов, ни Зорькин — ни разу не сказали и даже не намекнули, какую позицию они заняли бы в критические моменты после февраля 1917 года в реальном спектре политических сил. Вы отвергаете проект большевиков как якобы худший из реально возможных? Хорошо. Принимаем даже, что большинство народа фатально ошиблось, поддержав большевиков, — бывает. Скажите, с кем были бы вы лично. Вот это было бы по-честному, поскольку тогда ваша критика того выбора была бы сопряжена с личной ответственностью.
Пусть бы И.Р. Шафаревич сказал, что он в 1919 году был бы сподвижником генерала Шкуро или громил бы города и местечки вместе с батькой Махно. Пусть бы он сказал, что это был бы лучший выбор, чем собирать Россию под красным флагом, что лучше было бы ему потом скитаться по эмиграции, чем заниматься математикой в Академии наук СССР. Ведь реально других проектов уже не было, пути Столыпина и буржуазных либералов уже были «исхожены до конца», Керенский уже написал о себе: «ушел один, отринутый народом». Так присоединитесь в вашей рефлексии хоть к нему, вас все-таки будет тогда двое!
Нет, все молчат! Шафаревич даже возмутился — это, мол, нелепый вопрос. С какой стати он будет продумывать тот выбор, если он тогда не жил? Его отрицание рефлексии как способа познания реальности и предпосылки предвидения оказалось принципиальным, он его обдумал. Но это уже радикальный постмодернизм, мало кто до него дозрел. Все обычно задумывались — это по лицам было видно.
Думаю, каждый вспоминал следующий критический момент — поворот к сталинизму в конце 1920-х годов, к восстановлению державы, что означало отказ от идеи мировой революции. Пусть бы Зорькин сказал, что он в тот момент был бы с Троцким или Бухариным — вот реальный выбор, другого не было. В начале перестройки пытались представить Бухарина лучшей альтернативой, чем сталинизм. Но вышли из печати его труды, и эта попытка лопнула, как мыльный пузырь, ее потом предпочли забыть. Ну, так признайте: да, полвека предреволюционной работы тогдашних познеров и новодворских, Временное правительство тогдашних бурбулисов и чубайсов толкнули Россию на такой путь, что в конце 1920-х годов сталинизм, при всех его видимых уже тогда ужасах, оказался лучшим выбором — и подавляющая масса народа сделала именно этот выбор.
Ведь это и есть фундаментальная проблема для интеллигенции. Как же можно от нее уходить? Почему в критические моменты истории, когда речь идет об утрате национальной независимости, ее спасением приходится заниматься людям с диктаторскими наклонностями, действующим с избыточной жестокостью? И как добиться того, чтобы в следующих поколениях потомки, возмутившись жестокостями, вместе с образом диктатора не сдали бы и саму независимость? Нет, об этой проблеме культуры не хотели и слушать.
А когда утвердился Сталин — оставалось десять лет до войны, и эти десять лет Россия прожила «бытом военного времени». Но ведь об этом — никто ни слова. Что такое «быт военного времени»? Это тоталитаризм. А значит, и жертвы, в том числе невинные, тоталитарной машины. Эта жертвенность принимается теми, кто воюет за страну, но ее ненавидят те, кто в этой стране есть «пятая колонна». Разве не так стоит вопрос? Так давайте честно определять свою позицию. Этим-то и трудна рефлексия.
Вот, тотальная коллективизация — зачем? Чтобы решить срочную проблему хлеба, т. к. промышленность не поспевала кормить город через товарообмен. Коллективизация — чтобы изымать средства у села для индустриализации, чтобы перейти к многопольному севообороту, механизировать поле и обеспечить заводы массой рабочих. Это проблемы, которые нельзя было отложить, не отказавшись от проекта в целом; и лишних денег для смягчения шока не было. Нефть и газ у России появились только через сорок лет — благодаря той же коллективизации.
Коллективизация — трагическая глава советской истории. Так пусть Бабурин скажет, как бы он в тот момент решал эту проблему, окажись на месте Сталина. Что предлагают вместо коллективизации — хотя бы теперь, с высоты опыта 70-80 прошедших лет? Шафаревич на это отвечает, что надо было «сосредоточить все силы на поиске другого пути». Но за 70 лет размышлений можно было бы этот другой путь ретроспективно найти, в главных его чертах. Так давайте, укажите. Не указывают, «потому что они тогда не жили». Это и есть утрата способности к рефлексии.
Поразительно, насколько разумнее и даже бережнее отнеслись к нашей истории чужие люди. В нескольких американских лабораториях рассчитали шансы на успех продолжения НЭПа без коллективизации. Эти расчеты сделали уже с помощью современных методов математического моделирования и с надежно известными данными обо всех важных сторонах реальности после 1930 года. Ученые ввели в модель данные о земельном фонде, рабочей силе и численности тяглового скота в сельском хозяйстве СССР, учли реальные погодные условия 1928-1940 годов и составили прогноз урожайности и возможности увеличения поголовья тяглового скота. Эти расчеты изложены в книге Г. Хантера и Я. Штирмера «Советская экономическая политика в 1928-1940 гг.» («Faulty Foundations. Soviet Economic Policies. 1928-1940». Princeton, 1992, 339 p.). Она обсуждалась в 1993 году на семинаре в Институте российской истории РАН («Отечественная история», 1995, № 6).
При этом американские историки в своих моделях исходили из нереального, невыполнимого допущения, что СССР мог бы в эти годы не проводить индустриализацию. Более того, ученые абстрагировались даже от проблемы выживания в грядущей войне и фактора времени, отпущенного историей на то, чтобы к ней приготовиться. Но и при таком допущении оказывается, что без коллективизации переход села к травопольным севооборотам и интенсивному хозяйству оказался бы невозможен. Причем главным ограничением была невозможность достаточного прироста поголовья лошадей (мы об этом факторе раньше вообще не думали). Для расчета этого поголовья американские историки-экономисты составили самую детальную модель с учетом всех условий России, на основе тенденций с 1882 года по 1928 год. При оптимистических, признанных завышенными прогнозах урожайности получалось, что без коллективизации можно было бы получить примерно на 10% больше зерна, чем было реально получено в СССР. Но этот прирост был бы с лихвой истрачен на корм лошадям.
Взвешивая историю не на фальшивых весах, нельзя не признать, что советский строй смог провести страну раненную, но полную жизни, через самые тяжелые периоды. Представьте, что мы входим в ту войну или послевоенную разруху не с ВКП(б), а во главе с нынешней политической и предпринимательской элитой — «Единой Россией» и олигархами; не с Жуковым и Молотовым, а с Грачевым и Козыревым; не с солидарными карточками, а с либерализацией цен. Но ведь чтобы все это сопоставить, надо «прокатать в уме» прошлое и представить себя самого в эти критические моменты, понять свое восприятие той реальности. Только тогда ты сможешь почувствовать, осмыслить настоящее и освоить будущее. Нужна рефлексия — а ее нет!
Мы уже двадцать лет слышим непрерывный хор на манер греческого: «Сорок миллионов расстрелянных! Нет, шестьдесят три миллиона!». Разве не поразительно: после обнародования точных и подвергнутых перекрестной проверке архивных данных о репрессиях, в университетах США в курсах истории приводятся именно эти достоверные данные, а в Российской Федерации продолжается фальсификация сравнительно недавней истории. В этой какофонии люди вынуждены «все забыть», чтобы не быть в невыносимом постоянном конфликте с тем, что они слышат. Их память отупела, как под наркозом. И они равнодушно воспринимают любую галиматью.
Раздутый хладнокровными идеологами образ репрессий имел многоцелевое назначение. Одной из целей было разрушение чувства государственности — причем не только советской, а вообще любой. Это преследовало и политические, и чисто уголовные цели — отвращение к государству было необходимо хотя бы на момент приватизации почти всей государственной собственности.