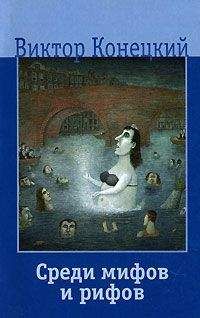Снижение качества решений и их трактовки выразилось в настойчивом уходе власти и ее экспертов от постановки и осмысления фундаментальных вопросов. Это было неожиданно видеть у образованных людей, наделенных властными полномочиями. Для них как будто и не существовало неясных вопросов, не было никакой возможности поставить их на обсуждение.
Можно даже сказать шире. Современный кризис России «замечателен» тем, что между властью и обществом как будто заключен негласный договор: не ставить не только фундаментальных, но и вообще трудных вопросов, уже не говоря о том, чтобы отвечать на них. Депутаты не задают таких вопросов Правительству, избиратели — депутатам, читатели — газете, газета — академикам и т. д.
Уже М.С. Горбачев принципиально отверг целеполагание как одну из главных функций государства. Он с самого начала заявил: «Нередко приходится сталкиваться с вопросом: а чего же мы хотим достигнуть в результате перестройки, к чему прийти? На этот вопрос вряд ли можно дать детальный, педантичный ответ». Никто и не просил у него педантичного ответа, спрашивали об общей цели, о векторе движения страны в переходный период.
Здесь возникает проблема, в которую мы углубляться не будем, но обозначим. Отказ от явного целеполагания может быть избран как тактический прием по разным причинам. Первая — желание уйти от ответственности (или смягчить эту ответственность) при провале авантюрной программы. Если авторы программы видят ее дефекты, создающие высокий риск провала, то цель не объявляется, а после провала говорится, что «мы этого и хотели» — с идеологическим оправданием того, что реально «получилось». Если в руках сохраняется контроль над СМИ (и организованной «оппозицией»), то катастрофу всегда можно представить как следствие «тоталитарного прошлого», «отсталости народа» и пр. Вторая причина — принятие властью целей, настолько противоречащих интересам подавляющего большинства населения («страны» как целого), что их было невозможно огласить вплоть до надежного достижения необратимости.
Какая из двух причин является исходной, выяснить в ходе событий трудно. Часто эти причины совмещаются: начав авантюрную программу и заведя страну в тупик, власть может пойти с повинной не к собственному народу, а к правителям геополитического противника и «сдать» страну. У нас сейчас, говорят, «переходный период», власть нас ведет куда-то. Первая обязанность ведущего — объяснить людям, куда идем, какое болото у нас на пути, по каким кочкам или мосткам будем переправляться. Наша власть и ее интерпретаторы молчат. А если говорят, то так, что каждое слово порождает недоумение. Речь стала не средством объяснения (от слова «ясно»), а средством сокрытия целей и намерений. Недаром при власти кормится целая рать толкователей («политологов»).
В самом начале, когда власть стала уходить от фундаментальных вопросов, это выражалось в отказе от определения категорий и их места в иерархии. Это приводило к смешению ранга проблем, о которых идет речь. Причем, как правило, это смешение имело не случайный, а направленный характер — оно толкало сознание к принижению ранга проблем, представлению их как простого, хорошо освоенного явления, не сопряженного ни с каким риском для страны. Соответственно, ликвидация или изменение существующих структур представлялись как чисто технические решения.
И школьная реформа, и смена типа высшего образования, и реформа пенсионного обеспечения или ЖКХ — все это проблемы исторического выбора. Все они меняют сам тип жизнеустройства народа. Они должны обсуждаться как политические проблемы. А в Государственной думе постоянно слышатся призывы «уйти от политики». В дебатах Госдумы все законопроекты представлены как очевидно полезные, так что речь может идти только о «поправках». Если сделано «200 поправок», значит Госдума поработала на славу. А на деле даже понять невозможно, о чем там спорят.
Экспертам, которые в принципе отвергают предлагаемое Правительством решение, вообще в Госдуме трибуны не дают. С начала реформы мы раз за разом сталкиваемся с новыми явлениями и проблемами, которые требуют ответственного осмысления совместно государством и обществом. Этого нет. Не наметив цели движения, власть вместо определения стратегического курса захлебывается в ситуативных решениях.
Изменение структур, символов или понятий, которые имеют цивилизационное значение, выдают за несущественные шаги в сфере «технической целесообразности». Говорили, например, о замене слова «милиция» на «полицию». Мелочь? Нет, смена символа. Вот, объявили награду за голову Басаева — противный нашей культуре метод. Чего добились? Где очередь за этими долларами? Зачем было тащить в Россию эту грязную технологию?
Дальше — больше. Генеральный прокурор предложил брать в заложники родственников террористов! Телевидение сразу об этом раструбило и даже ввело в обиход термин «контрзаложники». Понимают ли философы, социологи и юристы, которые готовили это предложение, что это значит в России? Ну, соберут по деревням и рынкам десятка три женщин и детей, привезут на место захвата заложников — а дальше что? Расстреливать их по очереди?
Целая рать экспертов, которая снабжает государственную власть России идеологическими метафорами, афоризмами и формулами, не может встроить их в реальный контекст и как будто просто не может додумать их. Многие из этих странных понятий и афоризмов работают против государства — не из-за злого умысла их авторов, а просто из-за неадекватности, которая травмирует общество.
Некоторое время в СМИ и на разных уровнях власти делалось ставшее почти официальным утверждение, будто «террористы не имеют национальности». Понятно, что оно вызвало замешательство: куда же у них делась национальность? Каким образом они от нее избавились? Это заявление было тем более странным, что вся российская и мировая пресса была полна выражениями типа «палестинские террористы» («баскские», «чеченские» и пр.). Какой эксперт предложил эту формулу, какие доводы при этом приводились, почему образованные люди на высоких постах ее приняли?
Предельно странной была и сама трактовка терроризма, которую давали российские политики. И это притом, что явление терроризма приобрело фундаментальное значение, оно интенсивно изучается, и вклад России в знание о нем весьма велик. На одном всемирном конгрессе в сентябре 2003 года В.В. Путин заявил, что террор — это «подавление политических противников насильственными средствами» (это он якобы нашел в «отечественных и иностранных словарях»). Это определение терроризма вызвало удивление, ибо оно «позволяет считать террористами Кутузова, Матросова и вообще всех участников обеих отечественных войн».
Ухудшение языка — важный признак и в то же время фактор регресса в мышлении. Видный социолог П. Бурдье писал: «Социальный мир есть место борьбы за слова, которые обязаны своим весом — подчас своим насилием — факту, что слова в значительной мере делают вещи, и что изменить слова и, более обобщенно, представления… значит уже изменить вещи. Политика — это, в основном, дело слов».
К терроризму без достаточных оснований причисляют многие болезненные явления, порожденные кризисом. Неверные понятия искажают смысл явлений, а значит ведут к ошибочному пониманию проблем и к неэффективным решениям.
Вот, в 2008 году была проведена акция боевиков в Нальчике, крупном городе, столице региона, центре сосредоточения федеральных военных сил на Северном Кавказе. Ясно, что это признак качественного изменения ситуации. Это — не Чечня, где войну двадцать лет готовили западные спецслужбы с целью разжечь разрушающий СССР пожар. Что же произошло в Кабардино-Балкарии? Власть после событий в Нальчике хранила полное молчание, а выступления должностных лиц среднего уровня многих просто возмутили. Эти события опять пристегнули к «международному терроризму».
Где тут терроризм? Террористы вселяют страх в население, чтобы шантажировать государство, а здесь вооруженные группы открыто штурмовали здания силовых структур, цитадель государственности. Речь идет о мятеж-войне, новом типе войн, возникшем в конце XX века. Это явление для России очень опасно, но по своей природе и структуре оно никак не сводится к терроризму — зачем же вводить в заблуждение и себя, и общество?
Но самое тревожное состоит в том, что стратегические установки власти находились в противоречии с теми причинами событий, которые вслух изложили руководители силовых структур самой Кабардино-Балкарии. Они сказали, что вооруженное подполье в их республике возникло вследствие целого ряда причин:
— из-за массовой безработицы, выбросившей из общества целые поколения молодежи;