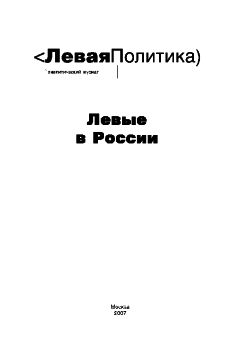Между российским и западным политическим языком буквально воспроизвелась ситуация, которую Гоббс описывает применительно к античному и современному ему западному языку политики. В силу примечательности данной цитаты, а также чудесной лёгкости её перефразирования применительно к проблеме отношений между западной «теорией» и российской «действительностью» приведём её здесь в развёрнутом виде:
«…люди легко вводятся в заблуждение соблазнительным именем свободы и по недостатку способности различения ошибочно принимают за своё прирождённое и доставшееся по наследству право то, что является лишь правом государства. А когда эта ошибка подкрепляется авторитетом тех, чьи сочинения по этому вопросу пользуются высокой репутацией, то не приходится удивляться, что это приводит к мятежу и государственному перевороту. В западных странах привыкли заимствовать свои мнения относительно установления и прав государств у Аристотеля, Цицерона и других греков и римлян, которые, живя в демократических государствах, не выводили эти права из принципов природы, а переносили их в свои книги из практики собственных демократических государств, подобно тому как грамматики составляли правила языка на основе современной им практики, а правила стихосложения — на основании поэм Гомера и Вергилия. И так как афинян поучали (чтобы удержать их от стремления к изменению форм правления), что они свободные люди и что все живущие при монархии рабы, то Аристотель пишет в своей “Политике” (книга 6, глава 2): “Демократия предполагает свободу, ибо считается общепринятым, что никто не свободен при ином образе правления”. И подобно тому как Аристотель исходил из практики Афинской республики, Цицерон и другие писатели основывали свои учения на мнениях римлян, которым внушали ненависть к монархии сначала те, кто свергли своего суверена и поделили между собой верховную власть над Римом, а затем их преемники. Благодаря чтению греческих и латинских авторов люди с детства привыкли благосклонно относиться (под лживой маской свободы) к мятежам и беззастенчивому контролированию действий своих суверенов, а затем к контролированию и этих контролёров, вследствие чего было пролито столько крови, что я считаю себя вправе утверждать, что ничто никогда не было куплено такой дорогой ценой, как изучение западными странами греческого и латинского языков»[17].
Возвращаясь к российской ситуации, необходимо подчеркнуть, что формирование нового политического языка было отнюдь не (или, по крайней мере, не только) целенаправленным результатом действия власти. Самоцензура современного российского общества, к сожалению, опережает реальную цензуру власти, примеров чему в настоящее время можно привести великое множество. Формирование нового политического языка — это во многом спонтанный процесс, который, помимо прочего, продолжает выполнять социально-терапевтическую функцию: он подменяет внутренние проблемы российского общества проблемами внешнеполитического характера.
Результат этого процесса проявляется, например, в том, что общественность начинает наперебой предлагать власти изоляционистские проекты один экзотичнее другого (достаточно вспомнить ту же «Крепость Россию»). Машина языка уже принудительно направляет политическое мышление в русло проведения различия и конституирования «очевидного» факта российской самобытности, что манифестируется, в частности, в появлении такой идеологической диковинки, как «суверенная демократия»[18]. Если создаётся новый политический язык, то он таким образом переформатирует реальность, что этой реальности остаётся только подтверждать правомочность использования нового языка. До настоящего времени, правда, российская власть вполне готова общаться с окружающим миром и даже охотно растолковывает ему специфику своего словоупотребления. То есть пока не утрачен навык перевода нового языка российской политики на «иностранный», западный политический язык. Но долго ли этот навык сохранится? А самое главное, общество-то, в отличие от кремлёвских специалистов, не владеет этими хитростями перевода! Картина мира, которая предписывается ему этим политическим языком, сама по себе становится фактом социальной реальности.
В конечном итоге, очевидно, что разговоры о разрыве с «Западом» отнюдь не означают поиска альтернативы капиталистической системе. Как раз наоборот. Вся самобытность свелась к воспроизводству модели государственного капитализма, ориентированной на опыт СССР. Что, конечно, не удивительно. Но если можно было говорить об СССР как о разновидности госкапитализма, системе, обслуживавшей слой управленческой бюрократии, которая базировалась на социалистической системе собственности, то теперь госкапиталистические отношения воспроизводит себя уже на фундаменте частной буржуазной собственности. Способна ли эта система трансформироваться в европейскую модель «социального государства» — это ещё открытый вопрос. Но уже сейчас можно видеть, что это будет государство, в котором бюрократия будет чувствовать себя не хуже, чем в советском обществе.
Остранённое{1} пространство Империи
Артемий Магун
После Второй мировой войны, когда был повержен германский Рейх, а европейские державы избавлялись от колоний, принято было считать, что политическая история Нового времени состоит в постепенном развитии идеи репрезентативного государства (status). Это государство было сначала абсолютной монархией, а потом стало либерально-демократическим. Вменяемый политолог («либерал» или «реалист») должен был описывать реальность в терминах государственного конституционного права, а не в терминах, например, мессианской истории. Даже либеральная полемика против суверенитета велась с позиций будущего «мирового государства».
Восторжествовала позиция, высказывавшаяся ещё в XIX веке Гегелем, а позднее Максом Вебером. Под государством понимался режим устройства общества, основанный на законах, управляемый рациональной бюрократией и возглавляемый всевластным сувереном, связанным цепью опосредований с каждым конкретным индивидом (подданным и/или гражданином). Отметим, что у такого государства не может быть собственного исторического развития: оно — рефлексивный автомат, ограниченный территориальными пределами нации, динамика которого завязана разве что на циклы экономической активности. Поэтому когда казавшийся либеральному сознанию «архаически империалистическим» советский режим рухнул, заговорили о конце истории и о скором триумфе мирового государства.
Государство и его критики
Наряду с развитием государства Новое время видится как триумфальное развитие капиталистической экономики, которую одни (правые либералы) считают неотделимой от либерального государства, а другие (левые либералы) — сложно переплетённой с ним, а зачастую и противоречащей логике государства. Теоретики марксистской школы, в том числе советские, говорили о недостаточности секуляризации и эмансипации, проводимой либеральным государством, указывали (в согласии с правыми либералами вроде Шарля Монтескьё и Бенжамена Констана) на его неразрывную связь с капитализмом. Последние требовали отмены и того, и другого в пользу иного, «коммунистического» или «социалистического», строя, в котором государство отомрёт, а власть либо будет не нужна, либо превратится в органы самоуправления советского типа. Впрочем, реальный советский опыт демонстрировал, наоборот, рост государственной машины.
Французские критические философы, наследники Маркса, Ницше и Хайдеггера (Альтюссер, Фуко, Делёз) видели в теории о репрезентативном правовом государстве, активном гражданстве и так далее простое идеологическое прикрытие отношений голого физического господства («власти»). Причём проявлялось господство не только в экономической, но и в образовательной, правоохранительной, медицинской и многих других сферах. Вслед за ортодоксальным марксизмом они предлагали отказаться от политического и юридического языков как относящихся к идеологии и перейти к метаязыку, объективистски описывающему непрерывную тотальность человеческих отношений. Фуко создал альтернативную историю Модерна, разворачивающуюся от репрезентативной власти к власти «дисциплинарной», а затем и к «биовласти». Но если у Альтюссера, учителя Фуко, где-то ещё маячила историческая альтернатива в виде коммунистического общества, то сам Фуко отказался от глобального политического проекта, от логики исторических альтернатив, настаивая, что сопротивление «власти» должно происходить на том же локальном, конкретном уровне, где она действует, — хотя, конечно, акты сопротивления должны быть массовыми. В целом, как показали Фредерик Джеймисон и Славой Жижек, анархическую философию Фуко и Делёза можно смело прочесть как замаскированную «логику позднего капитализма», который во многом перерастает репрезентативное государство и создаёт сетевую, «номадическую» структуру распределения и господства, доводя до предела отчуждение человека от самого себя. Заметим, что Делёз и Фуко были усвоены в постсоветской России именно в этом ключе, как культовые пророки либерального «постмодернизма».