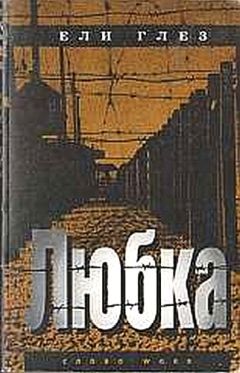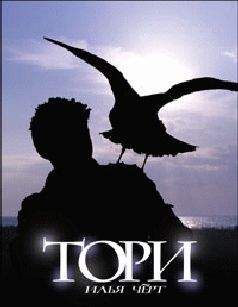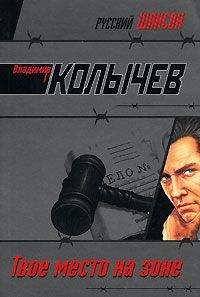— Вот и женщину заимели мы в малине.
Кто-то за столом коротко хохотнул.
— Я и говорю — пидорас он, но свой человек. Без нужды — не донимайте Любку, не он в ответе, что тело у него мужское, а душа — женская Ты — хохотун — завтра пойдешь с Любкой на дело!!
— Да зеленый он, она, то-есть, — запутался говоривший.
— И ничего, что зеленый Ты и поможешь и просветишь, чтобы почернел, да созрел…
— Вася — я же и говорю — завалит он нас, в штаны накладет и завалит!
— Я тебе не Вася, а Василий Семенович! Или «Черный»! Понял! И без трепотни! О деле поговорим позже, меж трех…
Белокурый только кивал в знак согласия. Хозяин поманил Любку и вместе с ним и белокурым выкатился в соседнюю маленькую комнатушку. Закрыв плотно двери, «Черный» присел на широкую постель и, глядя на моргающую, подслеповатую лампадку под угловой иконой, сказал:
— Теперь о деле всурьез. Ты, «Седой», место знаешь. Оно — хорошее и наживное, но трудное. Мы туда сначала Любку запустим…
На следующий день у московского Торгсина, учреждения, где новые власти скупали золото и драгоценности в обмен на жратву, появилась молодая парочка: Любка — в платочке, в новом цветастом ситцевом платье и туфлях на высоком каблуке, и с ней давешний белокурый «пацан» в черной «тройке» и огромной, надвинутой на брови кепке. Выглядела Любка вполне соблазнительно и даже вызывающе приятно. Мужики косились, а прохожие женского полу и среднего вида — осуждающе поджимали губы и покачивали головами. Никогда еще Любка не чувствовал себя так свободно и непринужденно. Платье туго обтягивало его довольно увесистый зад, бедра сами просились и пританцовывали, а высокие каблуки придавали походке упругость и легкость Взгляды мужчин вызывали у Любки приятный озноб и придавали особую оживленность и кокетливость его собственным взглядам и улыбкам. Давешний хохотун — «Седой» сначала стеснялся своей роли, но затем обвык и даже стал заигрывать с Любкой.
— Ишь ты, и впрямь — девка, зад так сам и просится.
Любка помалкивал, и только глаза его обжигающе посверкивали. «Седой», осмелев, взял Любку под руку, продев свою кренделем. Со стороны глянешь — полюбовная парочка, а то и молодожены. Подойдя к Торгсину, парочка расцепилась, и Седой быстро затерялся в густой толпе. Любка же впорхнул по каменным ступеням внутрь здания, где был остановлен строгого вида дежурным, с револьвером на боку.
— В какой отдел, гражданка? Инвалюты или приема ценностей?
— Да нет же, товарищ, — прощебетал Любка. — Я в отдел кадров, по объявлению. Вот!
И, покопавшись в сумочке, висевшей на локте, Любка достал сложенную, недельной давности «Вечорку». В рамочке на последней странице значилось: «Торгсину требуются разнорабочие, кассиры и уборщица в ночную смену. Сверхурочные не оплачиваются. Одиноким предоставляется общежитие.»
…Туго подпоясанный, кожано-скрипучий человек смотрел на розовощекого, волнующегося Любку внимательно и, казалось, очень приветливо. Любка, быстро улавливающий подсознательные флюиды, сообразил, что его женственные очертания и кокетливо повязанная косынка пленили сурового кадровика.
— Я вот что тебе скажу, Трифонова, — ты по документам из нашего, трудящего народа (документы были туфтовые — малина сварганила), начинай с низового поста, но мы тебя в секретарши продвинем!
— Так я же малограмотная, ни читать, ни писать, — залепетал Любка, стараясь перебороть свой ломкий, но явно мужской тенорок.
— Тебя продуло, что ли, голос у тебя хриплый? Не зашибаешь, часом?
— Да нет же — это я в поезде простуду подхватила, — закукарекал Любка.
— Я тебя, Трифонова, сегодняшним днем проведу по документам, а ты в ночь выходи, а то у нас мусора за три недели насобиралось по всем углам.
Кадровик вытащил какие-то серые листы и начал их заполнять вдоль и поперек, изредка спрашивая Любку:
— Ты девица, али женщина?
— Это в каком смысле? — оторопел Любка.
— Да я тебя не для смеху, а для статистики спрашиваю! Сверху разнаряд прислали на статистику. Мы ведь для порядку все знать должны, как мы есть рабочая и крестьянская власть.
И кадровик строго взглянул на ухмыляющегося Любку.
— Женщина я, — прошептал он, опустив глаза.
— Ну хорошо, ну ладно — не в етом дело! Иди в комендатуру с этим пропуском. Да не потеряй его! Ключи получишь, и чтоб в десять вечера приступила к работе.
Кадровик снова стал официально-подтянутым и серо-скучным.
Поздним вечером того же дня редкие прохожие могли заметить миловидную девицу, входящую в Торгсин и важно предъявляющую постовому свой документ. Покачивая бедрами и кокетливо улыбаясь, Любка заскользил по длинному коридору. Каблуки его новых туфель гулко постукивали о паркет. Пахло мышами и прогорклым сыром. Вытащив из кладовки ведра, тряпки и веники, Любка прошествовал мимо часового по первому этажу, всем своим видом изображая деловитую торопливость. Постовой добродушно улыбался и был явно непрочь поконтактировать. Но Любка опасался своего прокуренного голоса и потому, крутанув задом, исчез в одной из боковых комнат. В каком-то кабинете старинный часовой механизм пробил двенадцать. Стало еще тише и безлюднее на московских, затянутых синей осенней мглой улицах. Изредка Любка слышал цокание копыт и шелестение шин по асфальту. Через второй этаж Любка вернулся в свою каморку и тихо, стараясь не шуметь, отпер шпингалеты узкого, годами не протиравшегося окна. Нижняя заржавевшая защелка долго не хотела открываться, и Любка даже палец окровянил. Наконец, рама с противным скрипом отворилась, и в узком проеме окна показалось напряженно-бледное лицо Седого. Не без труда и с помощью сильных рук Любки, Седой протиснулся в каморку. Безмолвно указав Любке на дверь, Седой устроился на шаткой табуретке. Любка же опять, загрохотав ведрами, просеменил по коридору мимо часового, как бы торопясь закончить уборку. Взобравшись по лестнице на третий этаж, он заспешил к комнате под номером 7. «Вход посторонним строго воспрещен» — гласил плакат на облупленной двери. Любка завозился в связке ключей, нашел, наконец, подходящий жетон и осторожно открыл дверь. Комната была очень просторной, и ее белые стены нестерпимо сверкали, освещенные огромными голыми лампами без абажуров. По стенам комнаты теснились сейфы Они были разными: огромными и совсем маленькими; они были рыжими и зелеными, красными и черными. Некоторые были снабжены огромными колесами, другие были полировано-гладкими. Словом, это было царство сейфов, безмолвно и вопросительно глядевших своими дверями на Любку. Его чуткий и нервный слух внезапно услышал далекий приближающийся шум. Кто-то осторожно крался по пустому коридору. Когда в приотворенную дверь глянуло кирпично-красное от сдерживаемого смеха лицо постового, он смог увидеть лишь стоящего на коленях Любку, прилежно трущего половицы влажной тряпкой.
— И как вы ето, гражданка, проникли сюды, в особо-охраняемый объект? — шутливо грозно забасил часовой.
Любка жеманно дернул плечами и продолжал орудовать тряпкой.
— Давно из деревни-то? — спросил часовой. И, не ожидая ответа, продолжил: — шибко скучаю я тут. Воздух гнилой, прогорклый, людишки — мелкие, денежные. Знаешь, что в сундуках железных этих? Алмазы да золото. Все от старорежимной жизни, что награбили. Для музеев, говорят. Стоишь тут, киснешь задарма, а тут такое богатство. Ты, Трифонова, подальше от этой комнаты. Чисть, мой, да сматывайся, а то, если что случится, обоим на вышке быть!
Часовой подошел сзади к Любке и похлопал его по сухой мальчишеской спине.
— Ишь ты какая сухопарая — откормить тебя, так я от женитьбы не откажуся!
Внутри у Любки все ныло от мучительного страха. Он думал о Седом, сидящем в каморке и ждущем сигнала. Часовой меж тем стал настойчивее в своих похлопываниях, и Любка ощутил, что его рука пробирается все ниже и ниже. Любка внезапно толкнул ведро, и оно с шумом опрокинулось, залив грязной водой паркетный пол.
— Ах ты, охальник проклятый! — заверещал Любка. — Отцепись от меня, пока я тряпку о твою морду не извозила!
Часовой испуганно вертел головой и смущенно бормотал:
— Ну чего ты расшумелась, я так, в шутку, по-деревенски, а ты всерьез.
Пятясь и стараясь не ступать сапогами в грязную лужу, он выкатился в коридор и затопал вдоль него к лестнице. Любка же, выскользнув из комнаты № 7, порхнул по другой лестнице, влетел в каморку и беззвучно поманил Седого. Тот неторопливо поднялся с табуретки, погасил о подошву цигарку и также бесшумно как Любка заскользил по коридору. Было слышно, как у парадного входа часовой гулко кашляет, стучит прикладом винтовки и что-то неразборчиво бормочет.
В комнате № 7 Седой долго, как казалось Любке, чересчур долго, оглядывал сейфы, поглаживал их двери и полированные огромные колеса. Наконец, он вытащил из внутреннего кармана связку отмычек и начал осторожно возиться у одного из самых больших сейфов. Любка заворожено глядел, как ловкие, тренированные руки проделывают сложные, непонятные движения. Снова пробили часы в отдаленном кабинете. Ворот рубахи Седого потемнел от пота. Послышался чуть слышный щелчок, и массивная дверь сейфа стала плавно отворяться Вдруг в эту мертвую тишину ворвался новый тревожный звук: где-то внизу вопила сирена.