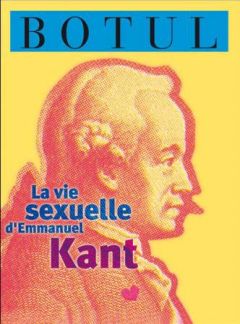VIII. День и ночь
В царство ночи он вступал, соблюдая несметное количество мер предосторожности: «Ложась в постель, он сначала садился на кровать, с легкостью заскакивал на нее, протаскивал угол одеяла за спиной через одно плечо к другому, а затем — с какой-то особой сноровкой — оборачивал вокруг себя другой угол одеяла. Так упаковавшись и опутавшись словно в кокон, он ожидал сна.»[61] Опутавшись словно в кокон. Или в смирительную рубашку… Или, подобный юношам в интернатах того времени, которым хотели помешать заниматься мастурбацией! Но он делал это добровольно! Связанный по рукам и ногам!
Кант — это бомба, которая сама себя предохраняет от взрыва. Что же происходит, когда какой-нибудь злой дух взламывает этот саркофаг? Что происходит, когда философ ожидает сна, который все не приходит? Бессонные ночи Канта порождают чудовищ разума.
Вам, конечно, знакомы все эти китайские лакомства, в тесте которых спрятано послание. Какого рода историю можно обнаружить, если разорвать кантовский кокон? По всей видимости, ужасные сцены. Я совершенно далек от того, чтобы профанировать тот величественный образ, ради которого мы здесь собрались. Я только хотел бы взяться за один мысленный эксперимент. Прямо здесь, в этот вечер, в нашем замкнутом кругу, буквально на одно мгновение, мне хотелось бы — подобно биологу в лаборатории — попробовать вырастить культуру болезнетворных микробов кантианства. Пожалуйста, оставайтесь спокойными, здесь малейшая неосторожность в обращении повлечет за собой угрозу заражения всей планеты! (Нервный смех в аудитории).
Мы — в доме философа, который находится на Принцессинненшрассе. Город Кёнигсберг спит. Мужчина осторожно сбрасывает свой кокон, одевается; бесшумно ступая, чтобы не разбудить своего слугу, крадется, спускается вниз по лестнице и выходит наружу, придерживаясь при этом стен домов. Он выходит наружу, в ночь, и начинает свою прогулку, которая неизменно пролегает по одному и тому же маршруту.
Совы и сычи уже привыкли к тому, что постоянно в одно и то же время прошмыгивает этот силуэт. Подойдя к скамье общественного парка — всегда к одной и той же — гуляющий садится, будто охваченный отвращением. Он думает: «Две вещи наполняют мою душу всегда новым и все более сильным отвращением: бред во мне и черная ночь надо мной».[62]
Он с отвращением рассматривает существование, не тот или иной аспект его, а обычное, тщетное, случайное существование само по себе. Он пишет в записной книжке неразборчивым почерком: «Моя ненависть, мое отвращение к существованию, это все разные способы принудить меня существовать, ввергнуть меня в существование; […]слюна у меня сладковатая, тело теплое; мне муторно от самого себя […]»[63]
В другие, безлунные ночи мужчина избирает другой путь. Он заходит в какой-то тупик. В конце тупика стоит дом, в котором светится красный огонек. Мужчина стучится в дверь. Он тут завсегдатай. Он справляется, не появилась ли у хозяйки новая, свежая девушка. Двойная жизнь: днем — респектабельный философ, ночью — развратный либертэн.
Возможно, что он предпочитал мальчиков… Этот холостяк, у которого в кровати никогда не было ни одной женщины — ни супруги, ни возлюбленной, который живет со слугой, а не со служанкой, разврат предпочитал извращению. Теперь маршрут кантовской прогулки, пролегающий по схеме, беспокойно блуждающей в общественном саду, сменяется на маршрут, обладающий плохой репутацией, ведущий к поискам встреч сколь мимолетных, столь и позорных.
Возможно, что кантовская жестокость по отношению к себе самому, эта ненормальная любовь к налагаемому на себя долгу, который причиняет боль, вела «элегантного магистра» к какому-то ужасному тайному свиданию, при котором щелкала плеть и текла кровь.
Возможно, что наш мужчина — просто обыкновенный денди. Его мании, его тщательность, с которой он за собой следил, эта его абсолютная оригинальность, это придание стиля своему существованию, уже в конце 18 века предвозвещают Бруммеля или Бодлера, этих великих художников меланхолии.
Возможно, что наш второй Кант возвращается к своей юношеской жизни и озаряет свой мозг в контакте с умершими — за крышкой стола. При этом он не обязательно должен был бы оказаться в плохом обществе. Величайшие умы 19 столетия были воодушевлены магнетизмом и паранормальными явлениями — великий Шопенгауэр любил спиритические сеансы. Впрочем, достаточно одной только легкой деформации ноуменального мира, чтобы из него получилось царство других мыслящих существ, с которыми сближаются посредством телепатии и медиумов и которые не встречаются в формах земного пространства и земного времени. От кантовского ноуменального не так далеко до нашей научной фантастики.
В конце концов, кантовскую мораль знак за знаком можно повернуть в апофеоз дьявола: добро — это зло, а зло — это добро. При этом получаются правила, которые нам слишком даже знакомы в этот варварский двадцатый век:
«Умри так, чтобы твоя смерть могла послужить примером всему человечеству».
Или: «Не довольствуйся тем, чтобы погиб весь мир, а поступай так, чтобы весь мир желал, чтобы весь мир погиб».
Или: «Умирай так, чтобы твоя смерть могла распространиться по всему свету». Я не утверждаю, что нацизм вытекает из кантианства, я только говорю, что в кантианстве, как и в любой морали, стремящейся к универсальности, заложен зародыш перверсии, который стоит только активизировать, чтобы вызвать геноцид и массовое уничтожение.
Или…
Но я прекращаю здесь свои манипуляции.
Вы видите, лучше, чтобы Кант оставался бесплодным. Он мог бы наплодить только окаянных сыновей и таких потомков, о которых трудно даже что-либо сказать.
Поостережемся же разрывать кокон философа!
Возвращение Марии Шарлоты
Кант — это философ границы. Ни на той стороне, ни на этой, ни бунтарь, ни покорный по натуре, он жил в равновесии в эпоху неравновесия, постоянно находясь в опасности разбиться при выполнении сальто мортале. Слишком честный, чтобы быть непорядочным, слишком порядочный, чтобы быть честным.
Философ жонглирует, балансируя на канате, который протянут между двумя безднами — одной под ним и одной над ним. Так и нужно прочитывать три монументальные «Критики»: как терапевтические процедуры человека, терзаемого внутренними противоречиями, акробата-канатоходца разума и неразумного, который ежедневно слышит призыв как возвышенного, так и низменного.
Я надеюсь, что мне удалось показать Вам, что сексуальность Канта коренится не в его жизни, а в его творчестве. Великая афера заключается в том, чтобы противостоять вещи в себе.
Как я уже показал, кантианство было набором сценариев. А в заключение я хотел бы представить Вам наименее пугающий из них.
Представьте себе возвращение Марии Шарлоты в Кёнигсберг. Да-да, той самой образованной и в то же время живой дамы, которая заигрывала с Кантом, находясь в Берлине…
Ей нашлось бы место у нашего философа.
Не обязательно в его постели, но и не на сомнительном троне супруги.
Она могла бы стать душой его салона.
С ее изяществом и с ее остроумием она знала бы, как оживить общение. Она сделала бы так, чтобы эти господа говорили о сложнейших темах в более легком и менее педантичном тоне. Она могла бы ласково потешаться над этим господином философом, который утверждал, что он якобы знает все о нравах калмыков, о громоотводе и о происхождении нашей галактики. Она бы этому Канту, который не терпел никакого противоречия, придала бы больше легкомыслия. Образованная женщина 18-го столетия поняла бы, как сделать нечто подобное.
Она могла бы ему растолковать, что истиной так же мало обладают, как и женщиной.
Она бы…
Дамы и господа, я благодарю Вас за Ваше внимание.
О пребывании Ботюля в Аргентине см. в книге Frederic Pages, Sur un fragment peu connu de J.-B. Botul, Editions Pluriel, 199
Письмо от 1 мая 1932 г.
Ботулизм — в философском смысле этого слова — долгое время воспринимался в невыгодном свете — в контексте омонимии с ботулизмом в медицинском смысле слова — тяжелой инфекцией, которая вызывается бациллой Clostridium botulinum, чаще всего содержащейся в испорченных мясных продуктах.
Автор этих стихов — по всей видимости, южноамериканский поэт — не установлен.
Оставлено оригинальное французское написание (в переводе — спокойного, мирного человека).
Вот свидетельство Иоганна Бернулли из третьего тома его «Путешествий», датированное 1 июля 1778 г. (Канту в то время было 54 года): «Этот знаменитый философ — в обхождении такой оживленный и учтивый человек, и с такими прекрасными манерами, что в нем не так легко увидеть глубокий проникновенный дух» (Leipzig 1779, 3 Band, S. 46).