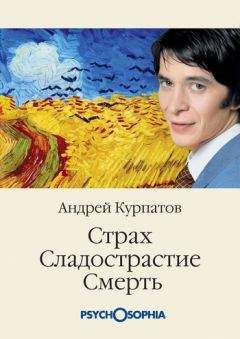Федора Михайловича Достоевского и Оскара Уайльда традиционно принято сопоставлять и противопоставлять (это делает и тот же К. Чуковский, и Ю. Сохряков, и многие другие). Действительно, у них много общего: и заключение, и злоключения, а также бесконечные сплетни о сексуальной жизни писателей (обоих литераторов ставили в один ряд с маркизом де Садом, Уайльд сам пишет об этом в «Исповеди», а Достоевского сравнивал с Садом в письме к Салтыкову не кто иной, как И.С. Тургенев), но в первую очередь упор делается все-таки на различия. Уайльд говорит, что мир без красоты не нуждается ни в каком спасении, в противовес этому Достоевский утверждает, что мир спасет именно красота. Впрочем, они же говорят о разной красоте: Уайльд – о красоте внешней, Достоевский – о красоте внутренней, поэтому искать в этом якобы «противоречии» суть проблемы вряд ли уместно. Тенденциозная оценка личности и творчества Ф.М. Достоевского, которая базируется на известной цитате, прекрасно развенчивается Семеном Людвиговичем Франком в его блистательной книге «Непостижимое». «Красота как таковая, – пишет в ней Франк, – нейтральна, в каком-то смысле равнодушна к добру и злу. Знаменуя какую-то потенциальную гармонию бытия, она мирно сосуществует с его актуальной дисгармонией; более того, она сама, по глубокому указанию Достоевского, сочетает в себе “божественное” с “сатанинским”, – ибо где что-либо прельщает нас обманчивой видимостью, там мы имеем дело с началом демоническим». Эта оценка творчества Достоевского полностью соответствует той, которую мы могли бы дать произведениям Уайльда. А следующие слова С.Л. Франка, сказанные им в контексте творчества Достоевского, и вовсе относят нас к судьбе «великого кельта»: «И сам художник, – пишет Франк, – человеческое существо, живущее в стихии красоты и упоенное ею, – лишь в редчайших случаях, да и то никогда не сполна – бывает внутренне, во всей своей жизни просветлен этой стихией; по общему правилу, в нем остается – в его подлинном целостном самобытии, как оно выражается в его личной внешней и внутренней жизни, – та же темная, неосмысленная, внутренне ничтожная реальность чистой субъективности, что и у всех других людей: “И из детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он”; и красота как таковая не спасет его ни от разрушающих сил зла, ни от трагизма человеческой жизни».
Тема этого почти неизбежного сопоставления двух гениев русской и английской литературы, разумеется, дискутабельна и всегда останется таковой, но посмею высказать собственное суждение. Тогда как Достоевский всю свою жизнь искал подлинную красоту, Уайльд защищался «Красотой», идеей Красоты, Красотой «в самой себе» и «для себя самой», защищался, гонимый страхом; когда же защищать было уже нечего, поскольку всем все стало известно до самых мельчайших подробностей, необходимость защищаться отпала сама собой, с нею канула в небытие и бездуховная красота или красота бездуховности (это кому как будет угодно). Вынужденный быть бесстрашным, он смог, правда весьма тихо, даже робко, по причине своей прежней привычки к скрытности в этом вопросе, сказать, что человек, его душа и страдания его души – это серьезно. Но сделать что-то в искусстве надломленный Уайльд, лишенный своего лоска и позерства, уже не мог. В этом и состоит, наверное, личная трагедия Оскара Уайльда как Художника.
Чуковский упрекает Уайльда в неестественности, искусственности, примером тому служит полное отсутствие живых пейзажей в произведениях поэта, и этот упрек оправдан. Если Уайльд и рисует перед своим читателем некий пейзаж, то это будет витиеватый рисунок персидского ковра в обрамлении драгоценных камней, а не пейзаж. Но ведь и Достоевский скуп на пейзажи, только вот в отличие от Уайльда он яркими, режущими глаз красками прорисовывает человеческую душу во всех ее проявлениях – низменных и возвышенных. Великий кельт прячет душу в сиянии драгоценных камней и в блеске не менее шумных по цвету костюмов. У Достоевского вы не найдете точных описаний одежд, зато лица его героев резкими и четкими мазками вычерчены практически до степени физического ощущения. И Достоевским, и Уайльдом движет страх, но если для Федора Михайловича страх – это точка преодоления, точка трансгрессии, проявляющая небытие, излом, на который он, может быть, и из страха, может быть, и понуждаемый, но идет. Уайльд же всегда бежал прочь от настоящего излома, он затмевал и припудривал изломы своей души едкостью удушающих благовоний. Только в тюрьме настал для него момент истины, но откровение не было долгим. Потеряв все, перестаешь бояться, возвращение же в мир сулило и возвращение страха. Страх вернулся, но теперь он вернулся в душу истерзанного и надломленного человека.
Освободившись из тюрьмы, Уайльд словно бы пытается убежать от самого себя, он меняет города и страны – Франция, Италия, Швейцария. Он страдает от нищеты, он совершенно раздавлен. Уайльд скрывается под вымышленным именем, что в конечном итоге делает почти невозможным его похороны в Париже! Законодательство Англии запрещало содомию, но именно там, в Англии, Уайльда угораздило выяснять отношения с маркизом Куинсберри, а законодательство Франции запрещало останавливаться в гостиницах под вымышленными именами, что сделало похороны Уайльда почти неразрешимой проблемой. А его «милый Робби» грустно пошутит по этому поводу: «Воистину иностранцу нужно дважды подумать, прежде чем умирать в Париже, – для его друзей это немыслимые мытарства и немыслимые расходы». Все не слава богу!
После тюрьмы Уайльд фактически ничего не создал, исключая разве знаменитую «Балладу Рэдингской тюрьмы», где его прежний эстетствующий стиль входит в очевидное и даже режущее глаз противоречие с темой личной душевной трагедии. Душа так и осталась неразрешимой загадкой, неприступной крепостью, «вещью в себе», своеобразной персоной non grate в творчестве Оскара Уайльда; она постоянно выскальзывала из под его пера, ускользала, уклонялась, таяла в мерцании слов, будто бы в молочной дымке тумана. Именно этот трагичный пробел, эту недосказанность творчества Уайльда и восполнил Роман Виктюк своей потрясающей постановкой своей «Саломеи». Своей «Саломеи» – это не оговорка, то, что нам предстоит увидеть на сцене, – это «Саломея» именно Романа Григорьевича, а не Оскара Уайльда, потому что Уайльд не писал того, что поставил Роман Виктюк. И возможно, если бы Уайльд увидел этот спектакль, его боль была хотя бы отчасти утолена, его неприкаянная душа нашла бы наконец успокоение, а его (в каком-то смысле вынужденное) литературное молчание, которое он так надрывно пытался преодолеть на склоне лет, было бы прервано плачем, но на сей раз не театральным, а вполне искренним, тем, которым плакал его «Счастливый Принц».
Оскар Уайльд обладал удивительным даром пророчества, но не судьбы человечества предрекал он в своих произведениях, а собственную жизнь. Может быть, лучше всего он поведал о своей грядущей судьбе в знаменитой сказке о «Счастливом Принце». Счастливый Принц всю свою жизнь провел в изумительном дворце за высокой оградой и не знал даже слез. Но вот он умер, и советники сговорились поставить в городе памятник Счастливому Принцу «на высокой колонне», «покрытый сверху донизу листочками чистого золота». «Вместо глаз у него были сапфиры, и крупный алый рубин сиял на рукоятке его шпаги». Крошка Ласточка остановилась переночевать в ногах статуи Счастливого Принца, но заметила вдруг, что изваяние плачет. Принц плакал из сострадания к людям, беды и горести которых открылись ему с высоты его колонны. Сговорившись, Принц и Ласточка раздали все богатство внешнего убранства памятника нуждающимся людям. Тем временем наступила лютая зима, а Ласточка так и не успела улететь в теплые края. Уставшая от трудов, измученная голодом и холодом, но полная нежной и преданной любви к своему царственному другу, она простилась с Принцем, из последних сил поцеловала его огрубевшие уста, упала к ногам своего возлюбленного и умерла. От этого горя раскололось оловянное сердце Счастливого Принца. Ранним утром следующего дня городские советники постановили переплавить уродливую статую:
«– Рубина уже нет в его шпаге, глаза его выпали, и позолота с него сошла, – говорил городской глава. – Он хуже любого нищего!
– Именно, хуже нищего! – подтвердили городские советники.
– А у ног его валяется какая-то мертвая птица. Нам следовало бы издать постановление: птицам здесь умирать воспрещается».
Металл, оставшийся после переплавки статуи Счастливого Принца, решено было употребить на создание другого памятника. Говорят, что и до сих пор городские советники спорят о том, кому же из них надлежит установить новый монумент. Так Счастливый Принц превратился в безликий кусок металла, только вот его оловянное сердце не сгорело в огне плавильной печи, и его швырнули в кучу сора, где лежала и мертвая Ласточка.