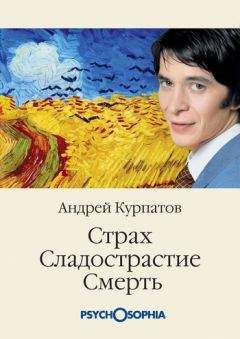Несчастный Принц
Судьба гения трагична по определению, но судьба Оскара Уайльда, быть может, самая трагичная из великих судеб. Он был не такой, как «большинство», и в глубине души очень тяготился этим. Играть вопреки естественности больно. Если представить, если силой воли заставить себя поверить в то, что подобная боль может приносить наслаждение, вероятно, боль притупится. Но надолго ли хватит подобного аутотренинга? Оскар презирал «большинство», впрочем, учитывая отношение общества к «меньшинствам», трудно было бы ожидать от него какой-то другой реакции. Но, к величайшему сожалению, в отличие от многих великих затворников, прославившихся своей поразительной самодостаточностью (достаточно вспомнить одного Спинозу!), Уайльд одновременно презирал и отчаянно нуждался в этом пресловутом «большинстве»… Он хотел быть любимым. Но как?… И зачем? Может быть, именно потому, что тяготился своей «странностью»? Общественное признание, которого он так жаждал, должно было стать для поэта психологическим оправданием его инаковости. Ведь «признанный» не может быть «отверженным», а именно отверженности Уайльд боялся более всего и не мыслил себя в этой роли. Может быть, он рассчитывал, что общественная любовь утолит, заглушит его боль? Но толпа не способна любить. Она распинает даже тех, кто идет к ней с открытым сердцем, когда же перед ней бравируют позой, она затаивается и жадно ждет той минуты, когда храбрец, исполненный безрассудством, наконец-то оступится, и тут уж толпа не станет мешкать с расправой.
Сначала над Оскаром Уайльдом просто посмеивались, пародируя знаменитого Эстета в постановках оперы «Терпение». Но потом Уайльд оступился, не рассчитал, понадеялся… Он ввязался в заведомо проигрышную для себя схватку. Потеряв ощущение реального, Уайльд поддался на столь же гнусную, сколь и безвкусную провокацию: сначала маркиз Куинсберри (отец злополучного Бози), не попав на премьеру пьесы «Как важно быть серьезным», где намеревался устроить публичный скандал, положил у входа в театр «букет» из овощей, а чуть позже оставил в клубе «Альбемарл» карточку, на которой значилось: «Оскару Уайльду, ставшему содомитом» (справедливости ради маркизу следовало бы направить аналогичное послание и своему сыну, но этого он почему-то не сделал). Оскорбленный Уайльд затеял процесс против отца своего возлюбленного, но эта атака просто не могла увенчаться победой, поскольку у нападавшего «тылы» были ослаблены сверх всякой меры. Давно зревшее общественное негодование, оплодотворенное дискурсивной гомофобией, разразилось массовой истерией. Словно бы по команде, грязь полилась отовсюду бурлящими потоками, ведьмы слетелись на свой зловещий и бесцеремонный шабаш, и началась настоящая травля поэта.
Уайльд вызвал огонь на себя, но силы были неравны. Впрочем, истинная трагедия – не в тактической ошибке Уайльда (с равным успехом мы могли бы сказать, что и Сократ в роковой для себя момент не прислушался к здравому смыслу), истинная трагедия Уайльда в вероломном предательстве, последовавшем со стороны любимого человека, а худшую долю представить себе трудно. К сожалению, «философ нереального» всегда делал ставку на эфемерные миражи и не замечал вокруг себя ни истинной преданности, ни настоящей любви. От всего этого разило «действительностью», а этим словом именовалось все то, что Уайльд никак не мог принять. В «действительности» для него было слишком много неприятного, начиная от дерзких мальчишек, избивших его в детстве, и заканчивая нечистыми на руку критиками. Существование Уайльда в пространстве вымысла сделало поэта слепым котенком, впрочем, и жертвой его назвать, наверное, трудно.
Впоследствии Бернард Шоу предпримет попытку объяснить решение Уайльда предстать перед судом «кельтским характером» поэта, но вряд ли кельтская гордость может принудить человека окунуться во мрак позора и бесчестия. А то и другое поэт испытает сполна. Взлелеянная Уайльдом поза, его имя, «олицетворявшее свое время», его произведения – все это будет поругано и отдано на осмеяние толпе. Шелка и бархат он сменит на «шутовской арестантский наряд», его имя станет нарицательным, его пьесы будут сняты, а дети отняты. Когда один из друзей Уайльда навестил поэта в тюрьме, Оскар стыдливым и беспомощным жестом прикрывал свое лицо каким-то платочком. Уайльд был раздавлен… «Уже одно одеяние наше делает нас смешными», – напишет Уайльд и добавит: «Между всеми отверженными самый безобразный был я». Ему плевали в лицо уличные зеваки, когда, увитый кандалами, он дожидался своей отправки в тюрьму. Ценности, которые в течение всей своей жизни так трепетно и так самозабвенно пестовал Оскар Уайльд, растаяли в одночасье, подобно утреннему туману. Здание эстетизма и философии нереального рухнуло, как карточный домик, оставив поэта один на один с его болью и страхом.
Театральная маска актерствующего Уайльда стала «железной маской» узника, оссадняющей лицо. Когда Оскар Уайльд, забравшийся так высоко, пал так низко, что мир для него переменился, новые боги воцарились на его Олимпе, место Красоты и Искусства заняли Страдание и Любовь. Он вдруг вспомнит о великой русской литературе, о Достоевском, об «Униженных и оскорбленных», впрочем, Россия ответит ему взаимностью в лучших своих традициях, окрестив его чуть ли не собственным писателем. В одном из писем к Роберту Россу, уже после заключения, Уайльд напишет простые, но чрезвычайно трогательные слова: «Христос умер не для того, чтобы спасти людей, а для того, чтобы научить их спасать друг друга. Это, разумеется, грубейшая ересь, но это также и неоспоримая истина». И эти удивительные слова принадлежат человеку, который некогда осуждал сострадание, как тягчайший грех…
Страх Уайльда быть отверженным в своем естестве материализовался. То, что он так тщательно скрывал под личиной своего эстетства, коснулось, наверное, уст всех его современников. Теперь он не был для них писателем, теперь он был для них «содомитом». Испуганный, поверженный Уайльд напишет министру внутренних дел слезное прошение, в котором будет утверждать, что стал жертвой «сексуального помешательства», будет ссылаться на авторитет Ломброзо и Нордау, из которых последний уделил Уайльду целую главу в своей книге с удивительным названием – «Вырождение». Уайльд решает для себя перемениться, вести «праведную жизнь», но спустя некоторое время, когда обуявший его страх отступит, пламенное чувство любви этого израненного сердца все-таки возьмет верх, но это будет уже агония. Уайльду не суждено оправиться от полученного удара. С него сорвали маску, он же закрыл свое лицо руками и заплакал. Уайльд не выдержал очной ставки с собственным страхом. Этот страх внушило ему общество, но боялся он не общества, а самого себя. Принять себя в своем естестве – вот что не мог сделать Уайльд, привыкший скрываться за бравадой собственной позы. В детстве, избитый и униженный, он мог высокомерно изречь: «Какой отсюда, с холма, удивительный вид!», теперь он лишен даже этой малости.
Уайльд пытается все переосмыслить. «Я вел жизнь, недостойную художника», – повторяет он во множестве своих писем, но ведь он и раньше чувствовал то же самое, только вот страх не позволял ему признаться в этом даже самому себе. И зря Чуковский удивляется: «Величайшая красота – в отречении от красоты, это пишет Уайльд в ту самую пору, когда с особенной страстью защищает свою бессмысленную, бесчувственную, бездуховную красоту-декорацию, красоту-узор, – и разве не против себя выступает он в своей романтической сказке о “Соловье и розе”, о том, как поэт-соловей хотел создать прекрасную песнь и для этого грудью прижался к острому, колючему шипу, и шип вонзался все глубже, и по каплям сочилась живая кровь, и только кровью, только смертью, только жертвой, только последним страданием была осуществлена красота!»
Уайльд противоречив? Да, безусловно. Он сыплет афоризмами? Да, мы знаем их наизусть. Но разве не в этих афоризмах, разве не в этой противоречивости проглядывается его страх, его желание испить боль смерти, спасающую от жизни? Он так настойчиво осуждал сострадание до тюрьмы и так клеймил тех, кто не способен сострадать после своего заключения, что неизбежно возникают определенные сомнения в искренности его первоначальных заявлений. Зачем же, в таком случае, он лгал поначалу? Верил ли он в то, что говорил? «Уайльд против Уайльда! – исступленно восклицает Чуковский. – Какое-то странное судбище: Уайльд – и прокурор, и судья, и обвиняемый. И когда в одной его сказке Рыбак, который отрекся и от мудрости, и от богатства, и от своей души, и от своей любви, не отрекся от красоты, Уайльд жестоко его наказал за это. Тут же, рядом, в одно и то же время, этот парадоксальный человек с одинаковой безумной чрезмерностью проповедует и радость красоты, и красоту страдания. Из той же глины, из которой была изваяна статуя вечного горя, ваятель лепит (в одной его притче) прекрасную статую радости. Что же это такое? Уайльд и сам этого не знал», – заключает Корней Иванович.