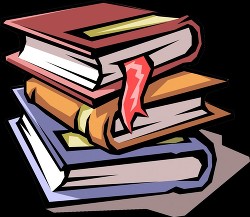чо ты молчишь, как полено?
Роман пожимает плечами, отскребая черешком молотка остатки пахучей лиственной коры от
прожилины. Грустно и неловко вспоминать про Свету. Глаз её он так и не увидел. Не удалось
проверить возможно сцепление их душ или нет…
– Скажи ей, что не сошлись характерами. Ну, как там поётся: «И пошли по сторонам – он
заиграл, а я запела… Ой, легко ли было нам?» Вот так ей и пропой. Всё, мама, в жизни бывает.
У Маруси пропадают все слова, какие есть. Внезапно забывшись, она даже прислушалась, как
сын озорно и дерзко спел эти строчки. Вот паразит так паразит, знает же, что ответить! Этот кусочек
из её любимых и много раз пережитых частушек обезоруживает полностью. Бежала она сюда чуть
ли не для того, чтобы надавать своему сыну, пусть и вчерашнему солдату, тумаков, и вдруг видит,
что у того могут быть и какие-то свои соображения, которых ей уже и понимать не положено.
– Ну, ладно, погоди… – всё-таки на всякий случай многообещающе говорит она, поворачиваясь
назад. – Ты пошто криво штакетины-то лепишь? – вдруг нападает она на Михаила за его
принадлежность к тому же подлому мужскому племени.
– Ну, леплю тебе! Да я только примеряю! – мгновенно заводится тот, вот ещё бы тут, на
совхозных делах, не выговаривала ему жена! – Тоже мне, нашёлся прокурор из области, ходит тут
прямо по улице… Прокурор…
– А чо, мне по огороду ходить, или чо?!
– Вот и ходи по огороду!
– Ну, счяс! Разбежалась! – огрызается, клокочущая от раздражения Маруся, удаляясь вдоль
свежего некрашеного штакетника, пахнущего смолой.
Роман совсем некстати чуть не прыскает со смеху. То, что мать рассержена – это ещё ничего.
Вот если бы она вдруг заплакала, тогда это было бы серьёзно. Наклонившись, чтобы отец не
32
видел лица, он берёт краешком губ несколько гвоздей и продолжает махать молотком.
Михаил же теперь невольно задумчиво замедляется. Мысли не дают хода рукам. Вот так
загадку они ему заганули: что же, было у сына что-то в самом деле или нет? Было что ли с кем-то?
Или просто за Светкой ходить перестал? Чудно, между прочим, как сын вгоняет гвозди. Сам-то он,
почитай, колотит их всю жизнь, а так не может. У сына же любой гвоздь влетает по шляпку с трёх
ударов: первый примерочный и два конкретных. И хоть бы один гвоздь погнулся! Их что же, в
армии и этому учили? Откуда эта точность и резкость?
– Ну, так кто же она така-то? – улучив момент, осторожно, как разведчик, но вроде как между
прочим интересуется Огарыш минут через десять.
– Да ладно вам… – смущённо отвечает Роман, защищаясь от отца собственной спиной.
И тут уже по тому, как неловко и стыдливо уходит он от ответа, до Михаила доходит, что – всё!
Всё идёт как надо! За сына можно не переживать! Никакого ущерба в нём нет. Так что будущее
обеспечено! Ух, какой каменюга-то кувырком сваливается с души! Огарышу становится так легко,
что даже выпить хочется.
– Ну, ты сильно-то не того! – сходу прикрикивает он, входя, наконец-то, в свою настоящую роль.
– Ладно, видишь ли, ему! Башку-то тоже надо на плечах иметь! А то нагуляешься тут!
Эх, хорошо, когда есть сын, на которого можно и авторитетно прикрикнуть…
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Почему всё не так?
Роман не знает, куда от матери глаза деть за свои ночные похождения. Она, растерянная, в
первые дни вроде бы и мирится с его свиданиями, но, узнав, что Наташка почти каждую ночь
бывает у них в тепляке, едва не взрывается от возмущения.
– Ну, в общем вот что, друг мой ситцевый, – тяжело дыша, говорит она ему после первого
шквала не самых изысканных выражений, – чтобы ты эту сучонку больше сюда не приводил! И не
маши рукой-то, не маши! – кричит она, даже пристукнув кулаком по столешнице. – Вот придётся
тебе на ней жениться, так попляшешь!
Брошенное матерью в сердцах заставляет присесть и задуматься. А если и в самом деле так?!
Ну, а что в таком случае делать? Это первая близкая ему женщина. Как обойтись теперь без
запаха её волос, без ощущений её упругого тела? Именно с Наташкой всё, вложенное в него
природой и определяемое отцом как «дурь», находит выход и успокоение. Уже само её
существование даёт Роману ощущение уверенности в жизни, делает его мужчиной. Никогда
раньше не чувствовал он себя таким трезвым и самодостаточным. Как же отказаться от неё?
Роман думает об этом целый день, гвозди влетают в штакетины и прожилины, как в масло, а
решения нет. Да и как оно, это решение, придёт, если мечтается-то весь этот день лишь об одном:
скорее бы вечер и – Наташка.
Сломанного штакетника почему-то больше всего в центре около правления совхоза
(специально его тут ломают, или что?), там, где всё движение села как на ладони. Отец, отмечая,
кто куда едет и что везёт, комментирует хозяйственный смысл каждого перемещения.
Бестолковщины в этом движении, по его мнению, столько, что раздражение своё он передаёт лишь
самыми доходчивыми, первыми и прямыми, незатейливыми выражениями.
Наиболее густым наслоением матов кроет он всякий раз проезд коричневой директорской
«Волги». Эта машина умеет ходить как-то необычно: медленно, вкрадчиво, бесшумно. Даже в гору
она катится будто сама по себе, существуя вместе с хозяином в отстранённом, чуть нездешнем
мире.
– Токо бензин зря жгёт, – злится отец. – Хотя чо же ему не ездить? Залил с утра полный бак и
катайся себе. Ты думашь, он куды-то по делу? Не-е-е. Вот останови да спроси: Никита Дмитрич,
будь добр, скажи, куды поехал? Так вот точно говорю – не знат.
Роману директор Трухин (которого за глаза называют Трухой) помнится по пожару,
случившемуся у них в первый год его директорства, когда Роман учился ещё в десятом классе.
Тогда ночью загорелся склад с витаминно-травяной мукой. Трудно забыть эту захватывающую
картину, когда огонь азартно и с хрустом пожирал дощатое строение с шиферной крышей, когда
языки пламени багрово и дымно вплетались в живые зелёные кроны тополей над крышей. Листья
сохли на глазах, горели, отрывались от веток и, искрясь, уносились в тёмное небо. Люди тогда
стояли и рассуждали, что если уж этот склад горит, так пусть дотла и сгорит – строить новое на
чистом будет легче.
И даже тогда, ночью, директор подъехал на своей коричневой машине, как будто днём она у
него вместо пиджака, а ночью вместо пижамы. Солидно вылез из неё, осмотрелся, нахмурился.
Хорошо помнится его выдвинутая массивная челюсть