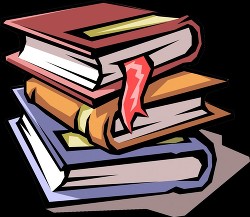уже зарывать. Ох,
Сашкоо ты Сашкоо, синеглазый пацанёнок, которому смотреть бы да смотреть на голубое небо и
бегущие по небу облака, похожие на разные фигуры… Почему же с ним случилось такое? Уж не
сработало ли тут невольное Тонино пророчество, что она будет наказана за то, что когда-то не
хотела его рожать?
Во время всей церемонии похорон Роман старается ни на кого не поднимать глаз, а больше
всего – на Тоню. Издали смотрит на гробик, не решаясь подойти ближе, чтобы не так ярко
вспоминать робкий и стеснительный взгляд Сашкоо. И лишь когда гроб опускают, он подходит к
могиле и молча отнимает у кого-то лопату – дай-ка поработаю и я.
Домой он возвращается, покачиваясь от внутреннего бессилия, а войдя в ограду, сразу
направляется в гараж, долго мутузит там чучело, снова в кровь разбив кулаки, а потом сидит на
чурке и плачет навзрыд. На подстанции пусто – стесняться некого.
Сменный электрик приезжает ровно через два месяца после подачи заявления. Он направлен
сюда с какой-то соседней подстанции (Роману даже не интересно с какой). Пока электрик приехал
один, чтобы принять все дела, семью привезёт позже. В этот же день Роман едет в сельсовет и
ставит в паспорте штамп о выписке.
Вечером он вместе с приехавшим электриком сидит на пустой кухне. Стола нет, вместо стульев
– два чурбака, занесённых из ограды. Недалеко от матраса Романа – матрас электрика. На улице
уже темно. Роман приносит к печке оставшиеся письма, бумаги, альбомы. Некоторые письма
пробегает быстрым взглядом, забрасывает в топку, готовя для сожжения. Несколько писем Серёги
отправить в топку не решается. Раскрывает чёрный пакет с фотографиями, которые и при
Смугляне хранились вместе с фотобумагой, перебирает карточки, даже не понимая, жалко их или
525
нет. Как бы там ни было, теперь их место тоже в топке. Электрик, заметив в руках хозяина
фотографии, тянется заглянуть.
– Видел? – грустно улыбнувшись, говорит Роман, веером рассыпав фотографии перед ним на
полу.
Сменщик, выучившийся на электрика, что называется, из простых мужиков, ахнув, падает с
чурбана на колени перед этим пасьянсом. Кажется, он просто в шоке. Глаза затравленно горят,
взгляд перебегает с карточки на карточку.
– Эк, как тебя проняло, – предостерегающе говорит Роман, – давай-ка их сюда. Это, как видно,
не для тебя. Видел один раз, и хватит – больше не увидишь.
Собрав фотографии, он мнёт их и засовывает в топку.
– Оставил бы мне, – просит мужик, краснея от стыда, – где ты их купил?
– Сам фотографировал.
– Сам?! – едва не задыхается тот. – Ну оставь, а?
– Нет, дорогой, это только моё и больше ничьё.
– А зачем ты вообще всё сжигаешь?
Роман на мгновение останавливается, задумавшись. Ну как ему объяснить? Нет, невозможно.
Сколько, интересно, градусов в его сегодняшнем тёмном вине? Пожалуй, эти глотки ещё крепче и
темнее, чем при сжигании Насмешника. Здесь сгорает почти всё прошлое.
– Нет, ты этого не поймёшь, – говорит он, едва ли до конца и сам понимая себя. – Ты не из таких
людей. Не из таких, как я.
И, сказав это, ещё какое-то время сидит, размышляя, смущённый своим разыгравшимся
самолюбием. Это у него уже от видения нового, как ему кажется, важного пути. «Из каких же это я,
интересно, «не таких»? Конечно, не из таких. Не из таких, как этот электрик. Этот всю жизнь
проживёт так, как живёт сейчас. Здесь ему всегда будет хорошо и не скучно».
Сменщик сидит подавленно, тихо и грустно. Кажется, он не может отойти от потрясения,
нанесённого фотографиями.
– Да не расстраивайся ты так, – утешая, говорит Роман. – Слушай, а мотоцикл у тебя есть?
– Нет.
– Купи мой.
– Так он же старый.
– А ты уже знаешь, сколько я за него попрошу?
– Сколько?
– А сколько у тебя с собой есть? Сто рублей есть?
– Есть. Только что зарплату получил.
– Вот за сто рублей и забери. Тут, видишь ли, какое дело, – почти оправдываясь, говорит Роман,
– не могу я продать его дорого. Права не имею. Мне, вообще-то, надо было его подарить или
передать кому-то, кто мне близок. Да так, чтобы от души. Но близких людей, которые нуждались бы
в мотоцикле, у меня нет. Мне просто некому его передавать. Но дарить тебе – глупо. Ты для меня
чужой. Потому-то я и назначаю чисто символическую цену. Да ладно… Ты всё равно этого не
поймёшь…
Электрик смотрит на него как на больного. Мотоцикл за сто рублей?! Да ещё и виноватым
выглядит при этом. Больной и есть. Встречая, сказал, что уже давно ждёт смены, а сам хоть бы
улыбнулся. И вообще, даже не разговаривает толком, уж не говоря об обязательной в этом случае
бутылочке. Хотя какая тут выпивка? В доме и корки не найдёшь, чтобы закусить. Он что, дух
бесплотный? Ничего у него нет, но и на бродягу не похож. А силён и ловок, видно, как чёрт. Ходит
легко, словно на пружинах. Голый по пояс, и на всём теле поигрывают тонкие, быстрые мышцы. И
чем-то страшен. На стене в доме висит какая-то странная рамка с грязной варежкой за стеклом, а
у самых дверей сверху свисает петля. Как всё это понять? А петля, интересно, для кого? Но,
пожалуй, лучше об этом и не спрашивать. Потом надо будет всё это снять и выбросить.
Роман открывает альбом с фотографиями. Быстро пролистывает его, стараясь не
всматриваться долго, чтобы не зацепиться за что-нибудь, вырывает несколько карточек, а весь
остальной альбом с толстыми бархатистыми корками идёт туда же – в топку.
Заправив, наконец, печку письмами и фотографиями (можно сказать, самой своей жизнью), он
чиркает спичкой, держит её над бумагами, проверяя, куда тянет дым. Тяга есть – вечером всегда
так. Касается огоньком краешка крайнего письма, окаймлённого косыми короткими полосками –
конверт «авиа». Электрик смотрит на него, оторопев и совсем ничего не понимая. И то верно – это
тебе не деньги Настасьи Филипповны, а куда круче.
Огонь разгорается азартно, Роман прикрывает дверцу и наблюдает в щелочку. Когда пламя
бежит по фотографиям, то кажется, будто они плавятся по границе огня. Время от времени Роман
открывает дверцу и ворошит в печке: огонь, опять огонь – почему в его жизни так много огня?
Была, конечно, мысль, упаковать весь этот архив и оставить на хранение у Матвея. А если уже не
случится вернуться? Не хочется даже думать о том, что кто-нибудь когда-нибудь станет читать
526
принадлежащее только ему. Не так уж и много у него в этом мире своего. Пусть