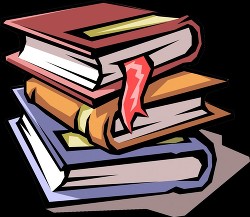только своим и
останется.
В печке уже нет ничего, а разворошённая зола ссыпана в поддувало. Повернувшись к гостю,
Роман освобождёно вздыхает. На лице – полный покой. И сменщик уже совершенно не
сомневается в том, что этот придурок и впрямь продаст мотоцикл за сто рублей.
Когда-то Роман думал, что для ощущения своей цельности человеку следует жить в состоянии
«подбитых итогов», с пониманием того, что если завтра ты умрёшь, то ничего недоделанного у
тебя не останется. Сейчас такой момент и есть. Сейчас он мог бы исчезнуть совершенно
незаметно для всех. И незаметно для себя, потому что оставляет минимальное количество зацепок
с этой жизнью. Наверное, самостоятельно нельзя своей жизнью распоряжаться лишь в том случае,
если она принадлежит кому-то ещё. Например, Серёга поступил подло, вздёрнувшись, не подумав
о других. Он не имел на это права, потому что его жизнь принадлежала многим. «А вот моя жизнь
принадлежит сейчас только мне. От меня никто принципиально не зависит. Это я завишу от всех. А
я этого не хочу. Так что, моя жизнь имеет совсем другое право – право спокойно отпасть от общего
дерева. И в этом нет ничего противоестественного. В любом случае, удои молока на ферме номер
два без меня, опять же, не снизятся, как это всегда происходило в отсутствии моего отца».
Рано утром Роман идёт на остановку. С покатого склона оглядывается на кладбище – вчера он
там был, поправил памятник и оградку на могиле родителей, так и оставшуюся без всякой
фотографии, подкрасил её голубой краской, выскреб старую траву, хотя, конечно, уже следующим
летом могила зарастёт. Ну, и пусть зарастает, чего уж теперь… Природа всё равно возьмёт своё.
Ещё раз оглянувшись на кладбище с той точки, откуда оно уже скрывается за поворотом сопки,
прощально машет родителям рукой – хорошо, что его сейчас никто не видит. Рядом бежит Мангыр.
Почему-то сегодня он держится рядом, а не нарезает, как обычно, широкие петли по всей
территории.
– Ты вот что, Мангыр, – наставляет его хозяин, – оставайся-ка тут вроде как вместо меня. Давай
будем считать, что в тебе живёт часть моей души. Так что бегай тут всюду. И на кладбище забегай
– туда, где я вчера тебя салом угостил, а сам стопочку водки выпил. Тебе там будут рады. И нового
хозяина слушайся, пожалуйста – он так-то ничего, нормальный мужик, на нашем мотоцикле будет
ездить…
«А кошка?» – вдруг вспоминает Роман. Странно, что трогательно прощаясь с Мангыром, он
совсем забыл про кошку, так и не проявившейся никаким именем. Конечно, переживать за неё
нечего – достаётся новым хозяевам, да и всё. Но почему он не разу не задумался о ней? И вдруг
по какой-то странной аналогии Роман вспомнил о жене. Он ведь забыл и о ней. Как возникла когда-
то эта Смугляна из темноты, так и растворилась потом неизвестно куда. А с ней и нескольких лет
жизни, как ни бывало. Исчезла и забрала их вместе с собой и с детьми… Как это странно, что от
прошлой жизни иногда совсем ничего не остаётся …
Минут за двадцать до подхода рейсового автобуса Роман, поставив чемодан на крыльце,
стучится в запертую дверь Матвеевых. В его руках – бинокль.
– Ты что ли? – сонно спрашивает Матвей, открывая дверь. – Случилось что? Заходи, давай. А
чего это ты с утра и с биноклем?
– Да у меня уже времени нет. Уезжаю я. Проститься зашёл. А бинокль – тебе на память. Вот
возьми. Гляди теперь в него сколько хочешь.
– Слышь, Кэтрин, иди сюда! – почти испуганно кричит Матвей через веранду в дом. – Роман
уезжает!
Катерина появляется в наспех накинутом поверх ночной рубашки платке.
– Господи, – говорит она, – Ромушка, да куда ж тебя понесло? Тебе ведь и ехать-то не к кому.
– На стройку социализма, тётя Катя, – грустно усмехнувшись, отвечает Роман, – я потом, может
быть, напишу…
– Ты что, совсем сдурел? – удивляется Матвей. – На какую ещё стройку? На БАМ что ли?
– Ну, считайте, что на БАМ.
– А мотоцикл где? – спрашивает Матвей, автоматически принимая от него бинокль.
– Новому электрику продал. Если сломается, так ты уж помоги с ремонтом. Всё-таки отцовский
мотоцикл-то, жалко. Пусть походит ещё по Пылёвке, сколько сможет.
Пожав Матвею, настоящему мужику и товарищу, на прощание руку и бодро помахав тётке
Катерине, Роман выходит за ограду. На минуту останавливается у пожарища родительского дома.
Всякий раз, проходя или проезжая мимо, Роман старался его не видеть, словно исключая из своего
сознания. Но сейчас ему нужно проститься и с пожарищем, с бывшим домом своих родителей и
себя. Пожарище заросло дикой, сорной травой, но никто это место не трогает, никто на него не
претендует. Мечта о собственном доме тоже оказывается нелепой: какими силами его строить, с
кем, для кого и для чего?
До остановки совсем недалеко. Всё теперь здесь завершено. За спиной такая пустота и
свобода, что даже оглядываться не хочется. И впереди пустота. А всё, что есть реального – это
лишь ты сам и эти зыбкие мгновенья.
527
– А чего же это он бинокль-то тебе отдал? – с недоумением спрашивает Катерина мужа, закрыв
дверь за ушедшим.
– Да всё тут ясно, – со вздохом отвечает Матвей, опускаясь на сундук тут же на веранде, –
просто на той стройке социализма бинокли будет казённые.
К остановке Роман поспевает вовремя. Рейсовый автобус подкатывает с непонятной утренней
лихостью, и лишь когда открывается дверь, эта лихость становится понятной. На весь пустой
освещённый салон гремит очень своевременная песня: «Колёса диктуют вагонные, где срочно
увидеться нам. Мои номера телефонные разбросаны по городам. Заботиться сердце, сердце
волнуется. Почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз!»
Всё! Прощай, моя Пылёвка!
Когда автобус выходит за село, Роман оглядывается, чтобы последний раз взглянуть на него, и
видит что сбоку, не в самом клубе пыли, а по обочине, где глаза не сечёт песком из-под колёс,
несётся какая-то собака. Мангыр! Тьфу ты! Кто же знал, что он побежит следом? Знал, так
привязал бы его дома, он бы всё равно потом сорвался. Ну зачем же так бежать? Однажды в
детстве, когда Мотя-Мотя вёз их с Серёгой до березняков с груздями, за мотоциклом вот так же
гнался Чок, решив что Ромку увозят навсегда. Кажется, Чок едва не умер тогда. А ты-то, дурачок,
зачем бежишь? Ведь этого автобуса тебе не догнать, и туда, куда я еду, ты всё равно не добежишь.
Хотя сейчас-то меня, возможно, и впрямь, увозят