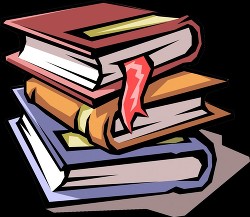Иван Степанович. – Неужели
такое возможно?
– Возможно, хотя тут есть одна неприятность. Вот смотрите: как мы воспринимаем своё
прошлое? Ведь для каждого из нас оно постепенно становится уже в какой-то степени не своей,
отдалённой жизнью. Оно превращается для нас в кино, которое мы смотрели много лет назад. Так
вот, таким же отдалённым и прожитым видится мне сейчас и всё моё будущее. Оно будто написано
на многочисленных листах тонкого матового папируса. Но понятно, что сока жизни в этой толстой
пачке листов уже нет. Моим вынужденным излишним воображением всё это возможное будущее
превращено в некую сухую формальность.
– Ну, а происходящее перед тобой сиюминутно разве не интересно? – спрашивает Голубика.
– Как ни печально, но и это – всё тот же папирус и кино. Я вообще нахожусь сейчас где-то в
стороне от собственной жизни. Спросите: где? Да похоже, одной ногой (очевидно, той, которой у
меня реально нет) ещё там, откуда вернулся. Такое путешествие не проходит бесследно. Было бы
странным, если бы я пришёл оттуда весёлым, блаженным херувимчиком.
– И всё-таки жизнь богаче любого воображения, – убеждённо говорит Ирэн. – В ней всё равно
отыщется что-то такое, чего ты даже не мог предполагать.
– Эх, знала бы ты, моя Голубика, сколько раз мы сидели с тобой и говорили обо всём этом в
моём воображении! Только в какой-то из этих бесед ты была без Ивана Степановича, в другом вот
на этом стуле сидел твой муж, в третьем – кто-то ещё незнакомый… Но эти варианты меняют не
многое. Сейчас я лишь перелистываю знакомые сценарии. Говорю с вами, а у меня на всё –
готовые ответы и даже блоки мыслей.
– Что ж ты не оградил от своего пожирающего воображения хотя бы один вариант, которым
можно было здесь жить?
– Признаюсь, есть одна такая версия. Я её, можно сказать, заблокировал. И, признавшись в
этом, я невольно признаюсь и в том, что всё-таки какая-то вера у меня осталась.
– Ну наконец-то! – радостно и непосредственно восклицает Голубика. – У тебя вправду есть
один «живой» вариант? Какой же?!
– Мне не хочется тебя обижать, но он связан не с тобой. Я же знаю, что у тебя уже всё устроено.
– Ну и что, что не со мной? Разве это важно!?
Иван Степанович поднимается и выходит вроде как по какому-то делу. Хотя какое тут у него
дело? Просто он не может слышать их личных разговоров. Он хочет подождать, когда закончится
эта тема, и вернуться.
– А ты действительно любишь девушку или женщину из этого зарезервированного варианта? –
живо и даже весело спрашивает Ирэн, проводив взглядом своего деликатного отца. – Извини, что я
так выражаюсь.
– Люблю. Ещё до взрыва я написал ей большое письмо. Оно занимает целую тетрадь. Вон, на
комоде лежит.
Голубика подходит к комоду, накрытому плюшевой накидкой и заваленному разными
безделушками, берёт и с интересом рассматривает обложку тетрадки в потёртом матовом
целлофане.
– Можешь посмотреть, – разрешает Роман, угадав её желание. – Всё равно это письмо стало
публичным. Тетрадку просто замызгали. Видимо, в госпитале её читали многие.
Открыв первую страницу, Голубика пробегает несколько строк, потом открывает тетрадку на
половине, потом сразу смотрит в конец.
– Но она-то хоть любит тебя?
555
– Что значит «хоть»? – насторожившись от её странного тона, от потускневшего вдруг голоса,
спрашивает Роман. – Что там?
– Нет-нет, ничего, – отвечает Ирэн, стараясь как можно спокойней и аккуратней, обеими руками
положить тетрадку на место.
– Подай мне её, пожалуйста, – просит Роман даже с какой-то обидной требовательностью.
Голубике ничего не остаётся, как выполнить просьбу. Роман быстро находит конец своим
записям и читает там последнюю строчку, написанную таким родным, но забытым почерком:
«Прощай, мой любимый, прощай, моя несудьба… Лиза».
Рука с тетрадкой медленно опускается на колено.
– Подожди немного, – просит Роман.
С минуту он сидит с окаменелым лицом, потом встряхивает головой, убирая длинные пряди
волос назад, и улыбается, как прежде.
– Ну и ладно. Всё, это – уже пепел, – говорит он. – Её ответа я не видел. Значит, Лиза была в
госпитале. И теперь уже всё изменилось. Теперь у меня нет и этого «живого», как ты сказала,
варианта. В течение трёх лет я избегал думать лишь о нём. Я оставлял это для жизни. Когда-то я
обещал ей написать такое письмо о любви, которое никто и никогда не написал никому за всю
человеческую историю. И вот как раз несколько дней назад я понял, что я напишу ей о об этом
чувстве такое, чего не знает никто. Жаль, что теперь это уже не нужно. И для меня это очень
сильный удар. Жизни больше нет.
– Странно, – говорит Ирэн, – а что, других женщин и девушек на этом свете уже не осталось?
– Всё остальное прожито.
– Всё?
– Всё!
Он поднимается на костыле, берёт с комода пакет со старыми письмами, отправленными с ним
из госпиталя. Быстро пробрасывает их.
– Так и есть, – грустно заключает он, – кто-то послал ей мою пустую открытку. Она меня уже не
ждёт, она получила моё разрешение на всё.
Ирэн ничего не понимает, но спросить не решается.
В избу входит Иван Степанович, садится у порога, пытаясь уловить: не мешает ли?
– Ты уж извини меня, Рома, – просит Голубика. – Это всё моё дурацкое любопытство…
– Ничего, ничего. Ты здесь ни при чём. Главное, что события уже произошли. К тому же,
видишь, я уже всё пережил.
– Пережил? – удивляется она. – Взял и вот так мигом пережил? Разве так возможно!?
– Я успел, – говорит Роман. – Переживать можно и быстро. Хотя только что мне было очень
тяжело. Очень. Что ж, теперь можно взглянуть и на этот вариант.
Он садится за стол, на какое-то время застывает, положив руку на лоб. Иван Степанович сидит
притихший, понимая, что вернулся, кажется, не вовремя.
– Всё верно, – произносит Роман. – Она сейчас открывает ключом дверь своей квартиры. Ах,
какая она красивая! Возвращается с занятий. Уже старшекурсница. На ней новое сиреневое
платье, которого я, конечно, не видел. А несколько минут назад внизу у подъезда она рассталась
со своим парнем. Он её сокурсник. Что ж, вот и явился Пьер Безухов. Ей нравились два
толстовских героя: Андрей Болконский и Пьер Безухов. Ну, я-то, видимо, был для неё кем-то вроде
Болконского. А вы ведь помните, что у Толстого всё заканчивается Пьером. Так и здесь. Отношения
у них прекрасные. Я в её душе остался как рана. И она меня старается, как бы это сказать,
закрыть. Она очень честная, порядочная девушка. И ждала меня ровно столько и ровно так, как мы
договорились. И