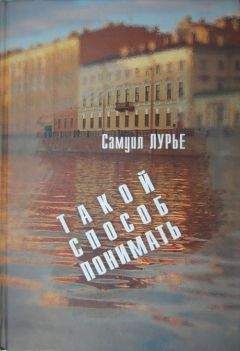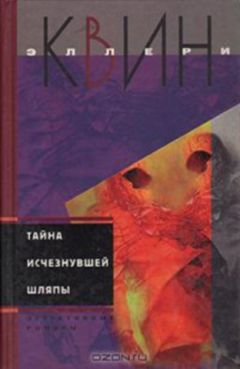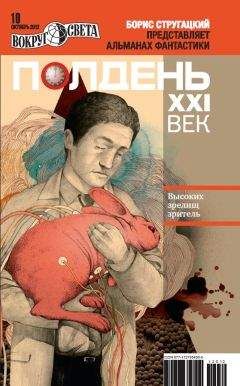Сегодня...
завтра...
а справимся все-таки!
Виновным - смерть.
Невиновным - вдвойне.
Сбейте жирных
дюжины и десятки.
Миру - мир,
война - войне.
Он зарифмовывал идеологию, как сражался на бильярде, - с азартом и артистизмом.
Чем бездарней была чужая - ничья - мысль, тем заманчивей она вдохновляла его изощренное мастерство.
За бесчисленные злодеяния, совершаемые в его стихах, Маяковский, конечно же, не отвечает.
Это же только так говорится: "Легко врага продырявить наганом. Или голову с плеч, и саблю вытри". Это если бы сабля была деревянная; обыкновенную опасную бритву протереть - ежедневный мучительный подвиг; а продырявить - разве что себя.
Для полной и окончательной победы социализма в СССР Маяковский сделал несравненно больше, чем какой-нибудь Ежов или Берия. Партийной линией он жирно обвел контуры обаятельного автопортрета - искреннего, с оттенком пролетарского демонизма. Энергию несчастной любви к женщине передал тезисами политической программы. Хочется верить, что ему действительно иногда мерещилось, будто враги перманентной революции бесстыдно посягают на Лилю Брик. Фотография Ленина возбуждала в нем примерно такие же чувства, как в Тургеневе - дагерротипный портрет г-на Луи Виардо.
И оказалось (или показалось?), что фальшь искупается болью, что бывает оптимизм без пошлости, что талант важнее, чем интеллект. Оказалось, что Настоящий Советский Человек - по крайней мере, один, - действительно существовал. И сделал для государства все, что мог, - даже убивать его не пришлось.
Сталин воспользовался стихами и смертью Маяковского для одного из самых злорадных педагогических экспериментов.
Вам рассказывают об обязанностях уборщицы, дежурящей в туалетной комнате при парижском ресторане, - и вдавливают вывод: что за границей легко живется только проституткам.
Вам описывают устройство ванной комнаты (кран для горячей воды, кран для холодной и т. д.) в кооперативном доме - извольте прикрутить политическую здравицу.
Вам читают - и велят заучить - стишки вроде вот этаких:
Смотрят буржуи,
глазки раскоряча,
дрожат от топота крепких ног.
Четыреста тысяч
от станка
горячих
Ленину
первый
партийный
венок
интересно, осмелитесь ли вы заикнуться - да и придет ли вам в голову, что это бред: венок из ног, горячих от станка?
Маяковский дал советской школе идеальный материал для таких упражнений, отучающих доверять собственному рассудку. Они разрушают связность мысли, подавляют иммунитет к демагогии, опыты эти. Они тоже изображены у Оруэлла, только там их проводит Министерство любви, а не просвещения, как у нас.
Что ж. Обществу вечных детей необходим настоящий детский поэт.
Ленин
больше
самых больших,
но даже и это диво
создали всех времен
малыши
мы,
малыши коллектива.
Маяковский бессмертен. Он живет в каждом из нас, внедрившись в коллективное бессознательное новой исторической общности людей..
Кроме того, ему принадлежат тысячи уникальных рифм, не одна сотня превосходных строк, не один десяток отличных строф, несколько стихотворений. Считается хорошим тоном - предпочитать ранние вещи, сочиненные до того, как Маяковский почувствовал, что война - это мир, что свобода - это рабство, и, главное, что незнание - сила.
Асеев - спутник из самых близких и верных - вспоминает, как в феврале 1915 года Маяковский читал ему только что написанное "Я и Наполеон":
"В памяти остались отдельные строфы, как в выветрившейся надписи веков. "Тебе, орущему "Разрушу, разрушу!", вырезавшему ночь из окровавленных карнизов, я, сохранивший бесстрашную душу, бросаю вызов!" И опять "ору", "разру", "ночь", "окровав", "изо", "я", "храни", "бесстра", ,,саю", "ызов". Похоже было издали на громкоговоритель, тогда еще не знакомый слуху..."
Июль 1993
Тютчев: ночь, день, ночь
Он мне представляется одним из тех изначальных духов, таких тонких, умных и пламенных, которые не имеют ничего общего с материей, но у которых нет, однако, и души.
А. Ф. Тютчева - Д. Ф. Тютчевой.
17 июня 1854
Тютчев сказал все, что думал, и притом - незабываемыми стихами, но с такой высоты, из такой глубины, где человек не встречается с человеком. Каждый найдет в этих стихах себя - но сочинителя не разглядит, а значит - не полюбит. Потрясающе искренний автопортрет невидимки - лирика Тютчева. Излюбленное местоимение - мы, как бы от лица всех смертных.
В молодости (а, как ни странно, и Тютчев был некогда молодым: в первой трети прошлого века) он верил, что предназначение у нас у всех одно: нашими глазами всматривается в себя Вселенная. Как проповедовал его мюнхенский знакомец, профессор философии Шеллинг: "свободное, одновременно страдательное и деятельное, упоенное и сознательное созерцание". Причем тут личность с ее притязаниями, с ее трепетом за себя?
"Смотри, как запад разгорелся..."
"Смотри, как на речном просторе..."
"Смотри, как облаком живым..."
"Смотри, как роща зеленеет..."
- наставляет неизвестно кого беззвучный, прозрачный голос. Нет ни автора, ни героя - просто центр окружности, субъект романтической теории познания.
Но для Тютчева это была не теория. Чуть не всю свою жизнь он потратил на то, чтобы "отделаться от своего "я"" (собственные его слова); сколько совершил безумств лишь для того, чтобы не оставаться наедине с самим собой, лишь бы только избавиться от нестерпимой, неотвязной тоски, превращающий каждый день в последний день приговоренного к смерти... Это признание обронено в одном из писем Тютчева к жене - меж политических новостей, придворных сплетен, каламбуров. Остается неизвестным, когда именно, при каком случае привязалось к Тютчеву предчувствие катастрофы. Достоверно одно: его биография - бесконечное бегство (из страны в страну, из города в город, из семьи в семью), а поэзия - бесконечная погоня за успокоением, за надеждой потерять личную боль в мировом ритме.
... Но чем мы долее глядим,
Тем легче нам дышать.
...........................................
Душа впадает в забытье,
И чувствует она,
Что вот уносит и ее
Всесильная волна.
Тут формула события, которое не только изображается, но и происходит в самых важных стихотворениях Тютчева. Стать частицей мирового света; а если это невозможно - погаснуть в мировой тьме:
Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся вглубь моей души,
Тихий, томный, благовонный,
Все залей и утиши.
Чувства - мглой самозабвенья
Переполни через край!..
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!
Какая невероятная свобода необходима уму, чтобы взять в собеседники сумрак! Она возможна лишь на проницаемой границе между сном и явью, набегающими друг на друга, словно волна на волну. Это состояние описано Тютчевым лишь однажды - в стихотворении "Сон на море", но, надо думать, было хорошо ему знакомо; не хуже, чем Мечтателю из "Белых ночей", чем Илье Обломову. Но те воображали себя героями ненаписанных романов - исторических, авантюрных. Игра Тютчева была несравненно затейливей: он мысленно перестраивал мироздание - словно крепость из песка на морском берегу.
К середине сороковых годов ночные светила гаснут в лирике Тютчева; занимается день; сотрапезник античных богов просыпается в России пожилым чиновником цензуры иностранной. Он все так же не знает покоя и нуждается в утешении, но предпочитает теперь возвышенному - прекрасное, и время (например - время года) занимает его сильней, чем пространство.
Взамен пророческих снов душа теснится воспоминаниями. Взгляд больше не пытается проникнуть сквозь разноцветную видимость вещей - какое это было самообольщение ума! Нам ли разгадывать природу! Мы сами-то, чего доброго, не снимся ли ей? - но зато какая радость - уловить на ее поверхности движение, подобное чувству! Обычно это удается при внезапном порыве ветра, ударе грома или мгновенной, яркой вспышке:
... Когда, пробившись из-за туч,
Вдруг по деревьям испещренным
С их ветхих листьев изнуренным,
Молниевидный брызнет луч...
Иной раз вся сила света сосредоточена в тончайшей подробности. Тогда пейзаж выражает совершенное умиротворение: "Лишь паутины тонкий волос / Блестит на праздной борозде".
Или - наоборот: смысл стихотворения направляется убыванием света. И тот самый человек, что когда-то мечтал уничтожиться во тьме, теперь смиренно молит:
Помедли, помедли, вечерний день,
Продлись, продлись, очарованье.
До этой минуты он и в любви оставался растроганным зрителем...
Потом Е. А. Денисьева умерла, и Тютчев снова, как много лет назад, остался один в ночи.
Но другая была ночь, и другое одиночество.
Все темней, темнее над землею