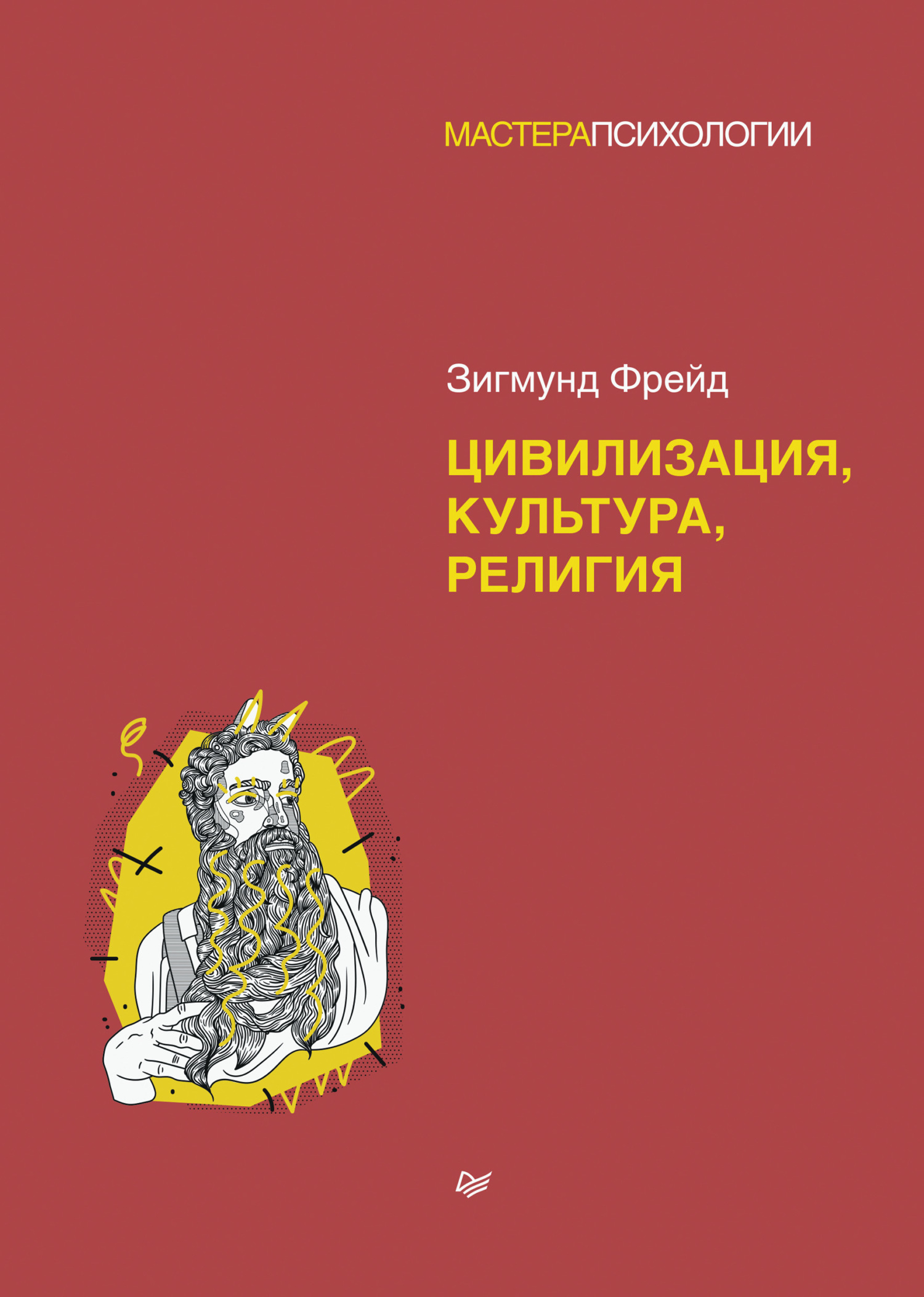убивал. От Аткинсона, в продолжение этой картины, – что такая патриархальная система нашла свой конец в бунте сыновей, объединившихся против отца, пересиливших и сообща пожравших его. Вслед за Робертсоном Смитом с его теорией тотема я стал считать, что впоследствии отцовская орда уступила место тотемистическому братскому клану. Чтобы жить между собою в мире, победоносные братья отказались от женщин, ради которых они ведь и убили отца, и возложили на себя экзогамию. Отцовская власть была подорвана, семьи начали складываться в соответствии с материнским правом. Амбивалентная эмоциональная установка сыновей по отношению к отцу оставалась в силе на протяжении всего дальнейшего развития. На место отца ставился определенный зверь – тотем; он считался родоначальником и духом-защитником, никто не смел вредить ему или убивать его, но один раз в год вся мужская община собиралась для праздничной трапезы, на которой столь почитаемое в прочее время тотемное животное раздиралось на клочки и совместно пожиралось. Никто не смел уклониться от этой трапезы, она была праздничным повторением отцеубийства, с которого брали свое начало общественный порядок, нравственные законы и религия. Сходство тотемной трапезы Робертсона Смита с Тайной вечерей христиан бросалось в глаза многим авторам до меня.
Этой конструкции я придерживаюсь еще и сейчас. Мне приходилось неоднократно выслушивать резкие упреки за то, что я не изменил своих мнений в позднейших изданиях книги, после того как новейшая этнология единодушно отвергала построения Робертсона Смита и выдвинула отчасти иные, совершенно отклоняющиеся теории. Я должен возразить, что мне эти якобы новейшие результаты, конечно, известны. Но я не убежден ни в истинности этих новшеств, ни в ошибочности выводов Робертсона Смита. Противоречие – еще не опровержение, новшество – не обязательно прогресс. Главное же, я не этнолог, а психоаналитик. Я имел право извлекать из этнологической литературы то, что я мог использовать для аналитической работы. Труды гениального Робертсона Смита предоставили мне ценные аналогии с психологическим материалом анализа, привязки для его использования. С его противниками я никогда не совпадал.
з) Историческое развитие
Не могу здесь подробно повторять содержание «Тотема и табу», но обязан позаботиться о заполнении долгого промежутка между той гипотетической прадревностью и победой монотеизма в исторические времена. После конституирования комплекса братского клана, материнского права, экзогамии и тотемизма началось развитие, которое следует характеризовать как медленное «возвращение вытесненного». Термин «вытесненное» мы употребляем здесь в несобственном смысле. Речь идет о чем-то прошедшем, исчезнувшем, преодоленном в народной жизни, что мы отваживаемся сопоставить с вытесненным в психической жизни индивида. В какой психологической форме это прошедшее наличествовало во время его затемнения, мы при первом приближении сказать не можем. Нам нелегко будет перенести понятия индивидуальной психологии на психологию масс, и я не думаю, что мы добьемся чего-то введением понятия «коллективного» бессознательного. Содержание бессознательного ведь вообще коллективно, оно общее достояние людей. Поможем себе поэтому на первых порах, оперевшись на аналогии. Процессы, изучаемые нами здесь в жизни народов, очень подобны тем, которые известны нам из психопатологии, однако они всё же не вполне одинаковы. Мы решаемся в конце концов считать, что психический конденсат тех первобытных времен стал неотъемлемым наследством, которое с каждым новым поколением нуждалось только в пробуждении, не в приобретении. Вспомним, к примеру, о заведомо «врожденной» символике, доставшейся нам от эпохи развития языка, знакомой всем детям без того, чтобы их здесь кто-то обучал, и одинаковой по смыслу у всех народов, несмотря на различие языков. В чем мы, возможно, еще не достигли достоверности, то мы восполняем другими результатами психоаналитического исследования. Мы обнаруживаем, что наши дети в целом ряде важных ситуаций реагируют не так, как это отвечало бы их собственному опыту, а инстинктообразно, аналогично поведению животных, что можно объяснить лишь как филогенетическое приобретение.
Возвращение вытесненного происходит медленно, заведомо не спонтанно, а под влиянием всех тех изменений в условиях жизни, которыми полна история человеческой культуры. Ни обзора этих зависимостей, ни более подробного, чем пунктирное, перечисления этапов этого возвращения я здесь дать не могу. Отец снова становится главой семьи, давно уже не таким неограниченным, каким был отец первобытной орды. Тотемное животное уступает место богу путем весьма отчетливых переходов. Сначала человекообразный бог еще носит голову животного, позднее любит превращаться в это конкретное животное, потом животное становится у него священным и его любимым спутником или же он его убивает и получает за это соответствующее прозвище. На промежуточной ступени между тотемным животным и богом вырастает герой, часто как предварительная ступень к обожествлению. Идея высшего божества утверждается, похоже, достаточно рано, сперва лишь схематически, без вмешательства в повседневные интересы человека. Со сплочением племени и народов в более крупные единства боги тоже организуются по родовому, иерархическому принципу. Один среди них часто становится верховным владыкой богов и людей. Затем делается неуверенный следующий шаг – поклоняться только одному богу, и, наконец, приходит решение наделить всей мощью одного-единственного Бога, не терпя рядом с ним никаких других богов. Лишь на этой ступени возрождается всё величие отца первобытной орды, и причитающиеся ему аффекты получают шанс возобновиться.
Первое воздействие встречи со столь долго отсутствовавшим и желанным было ошеломляющим – таким, как описывает предание о введении законов на горе Синай. Изумление, благочестивая преданность и благодарность за то, что человек обрел милость в его глазах: Моисеева религия знает только эти позитивные чувства в отношении божественного отца и никаких других. Убеждение в его необоримости, покорность его воле не могли быть у беспомощного, запуганного сына отца первобытной орды более безусловными; больше того, лишь перенесение в примитивную и инфантильную среду только и делает их вполне понятными. Движения чувств ребенка в совсем другой мере, чем у взрослых, интенсивны и неисчерпаемо глубоки, только религиозный экстаз способен возродить такое. Таким образом, энтузиазм преданности Богу – ближайшая реакция на возвращение великого отца.
Направленность этой религии отца была фиксирована таким образом на все времена, хотя ее развитие на том не закончилось. К природе отношений между сыном и отцом принадлежит амбивалентность; не могло обойтись без того, чтобы с течением времени не подняла голову и та враждебность, которая однажды побудила людей убить поражавшего их и страшившего их отца. В рамках Моисеевой религии не было места для прямого выражения убийственной ненависти к отцу; только мощная реакция на эту ненависть еще имела какой-то шанс выйти наружу – сознание вины из-за этой враждебности, больная совесть оттого, что ты согрешил перед Богом и не перестаешь грешить. Это сознание вины, неустанно разжигавшееся пророками, составившее вскоре самое средоточие всей религиозной системы, имело еще и другую, поверхностную