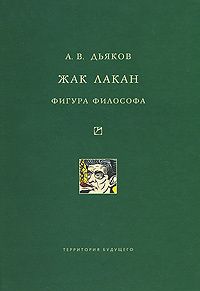В третьей фазе, после выхода из Эдипа, от фантазма остается одна лишь голая схема. Происходит новое, двоякое преобразование. Фигура отца преодолена, преломлена, разрешена в обобщенную фигуру деспотичного, облеченного властью наказывать лица, в то время как сам субъект предстает в форме множества различных детей, не имеющих даже определенного пола, а образующих своего рода нейтральный ряд.
Этой последней форме 'фантазма, в которой содержание его поддерживается, фиксируется, можно сказать, запоминается, как раз и свойственно послужить субъекту тем привилегированным образом, на основе которого то генитальное удовлетворение, которое этому субъекту станет доступно, в дальнейшем и будет строиться.
Вот предмет, заслуживающий нашего с вами внимания, — предмет, который какраз и сгоитосмыслить в терминах, которые мы с вами начали здесь осваивать. Что же могут они нам сказать на сей раз?
2
Итак, я возвращаюсь к своим двум треугольникам — воображаемому и символическому.
Диалектика символизации отношений матери и ребенка изначально направлена по сути своей на то, что может быть обозначено — то самое, другими словами, что нас с вами интересует. Есть, конечно, помимо этого и другие вещи — есть объект, который может предъявить мать как обладательница груди, есть способы непосредственного удовлетворения, которое она может ребенку доставить. Однако если бы кроме этого ничего не было, не было бы и диалектики, не существовало бы никакого доступа к ее построениям. Ведь дальнейшие отношения субъекта с матерью одними удовлетворениями и фрустрациями не исчерпываются, решающая роль принадлежит в них открытию того, что является объектом ее, матери, желания. Субъекту, этому маленькому ребенку, который призван сформироваться в условиях человеческой жизни и получить доступ в мир означающего, предстоит открыть для себя, что значит для матери ее желание. И все время, пока существует психоанализ, одной из главных задач, как в теории, так и на практике, остается для него понимание того, почему преимущественная роль столь явно принадлежит здесь фаллосу.
Читая статью Джонса о фаллической фазе, вы сами увидите, насколько неразрешимые трудности создает для него утверждение Фрейда, что в сексуальном развитии обоих полов существует некий первоначальный этап, на котором тема "другого" как "другого желающего" связана с обладанием фаллосом. Из окружения Фрейда этого не понимает почти никто, хотя все они вынуждены как-то изворачиваться, чтобы в свои построения этот момент как-то включить, так как их принуждают к этому сами факты. Что так и остается для них непонятым, так это то. что, говоря о фаллосе, Фрейд видит в нем означающее — означающее, которое является стержнем всей диалектики того, что в себе самом, в собственном бытии своем, предстоит субъекту завоевать.
Не отдавая себе отчета в том, что речь идет именно об означающем, комментаторы в поте лица пытаются найти ему нечто эквивалентное, рассуждая о защите субъекта в форме веры в фаллос. Конечно же, они собирают в подтверждение своей теории множество исключительно ценных фактов и обнаруживают тысячи следов интересующего их явления в своей практике, но все это так и остается у них набором частных случаев и индивидуальных подходов, нисколько не объясняющих, почему именно этот элемент получает преимущественное значение в качестве центра и стержневого элемента защиты. Так, прочтя Джонса, вы, в частности, обнаружите, что он приписывает вере в фаллос в развитии ребенка функцию, обнаруженную им в случае гомосексуальности — случае, который общим далеко не является. В то время как мы, говоря о фаллосе, имеем в виду функцию, касающуюся всех.
Позвольте мне использовать сжатую формулу, которая покажется вам, наверное, слишком смелой, — примите ее на данный момент, по крайней мере, в качестве рабочего варианта, к которому мы в дальнейшем возвращаться не станем. Я уже говорил вам, что функция Имени Отца внутри системы означающих состоит в том, чтобы обозначать всю эту означающую систему в ее совокупности, чтобы узаконить ее, чтобы сделать закон из нее самой. К этому я хочу добавить теперь, что фаллос начинает функционировать в системе означающих в тот момент, когда субъекту необходимо становится найти, в противоположность означающему, символ для означаемого как такового — я имею в виду, для значения.
То, что субъекту важно, то, чего он желает, желание как желанное, желание как то, что субъекту желанно, — когда невротику или извращенцу предстоит для всего этого найти символ, то, как показывает анализ, прибегает он для этого к помощи фаллоса. Означающее означаемого вообще — это и есть фаллос.
Это очень важно. Исходя из этого, вы во многом сможете разобраться. Не учитывая этого, вы поймете куда меньше и вынуждены будете доходить до многих чрезвычайно простых вещей путями долгими и окольными.
Фаллос оказывается в центре происходящего сразу же, кактоль-ко субъект сталкивается с желанием матери. Фаллос этот остается завуалированным и останется таковым на веки вечные — по той простой причине, что в отношениях между означающим и означаемым это означающее выступает последним. И мало шансов, на самом деле, что оно откроется когда-нибудь как-то иначе, нежели в качестве того, что является означающим по природе, то есть что оно и вправду явит когда-нибудь то, что оно, в качестве означающего, означает.
Давайте, тем не менее, подумаем о том, о чем мы еще не задумывались, — о том, что происходит, когда на месте этом оказывается нечто такое, что поддается артикуляции и символизации куда труднее, нежели что бы то ни было из принадлежащего Воображаемому, — другими словами, когда на месте этом оказывается реальный субъект. Ведь именно это и происходит в той фазе, на которую указывает нам Фрейд в качестве первой.
Желание матери не является здесь объектом поисков чего-то загадочного — поисков, которым по мере развития субъекта суждено навести его на след того знака, фаллоса, который и призван потом, вступив в танцевальный круг символического в качестве объекта кастрации, вернуться к субъекту уже в другой форме — чтобы тот делал то и был тем, что ему предстоит делать и чем ему предстоит стать. Он уже стал им и он это делает, но мы-то покуда находимся в самом начале, в том моменте, когда субъект, столкнувшись с воображаемым местом, где находится желание его матери, обнаруживает, что место это уже занято.
Мы не могли говорить с вами обо всем сразу — нам повезло, к тому же, что мы не задумались с самого начала о роли младших детей, которая является, между тем, как мы знаем, в возникновении неврозов решающей. Малейшего аналитического опыта достаточно, чтобы отдавать себе отчет в том, что рождение маленького брата или сестрички служит в развитии любого вида невроза поворотным пунктом. Однако если бы мы преждевременно на эту тему задумались, это возымело бы на нашу мысль в точности то же действие, что наблюдаем мы у невротиков, — фиксировав внимание на реальности обнаруженной нами связи, мы полностью упустили бы из виду ее функцию. Отношения с младшим братом или сестричкой обретают решающее значение не на уровне реальности, а лишь постольку, поскольку вписываются в ход совсем иного процесса — процесса символизации. Усложняя этот процесс, они требуют совсем иного решения — решения фантазматического. Каково же оно? Природу его Фрейд нам описывает — если в символическом плане субъект упраздняется, обращается в полное ничтожество, которое в качестве субъекта никто не собирается принимать в расчет, ребенок обращается к так называемому "мазохистскому" фантазму побоев, который и представляет собой в такой ситуации успешное решение проблемы на этом уровне.
Мы не должны этой ситуацией ограничиваться, но прежде всего нам нужно понять, что же все-таки имеет здесь место. А имеет здесь место символический акт. Фрейд сам это и подчеркивает — если ребенок привык думать, что в семье он один, одного-единственно-го подзатыльника бывает достаточно, чтобы вывести его из эйфории собственного всемогущества. Так что речь идет именно о символическом акте, и сама форма предмета, который в фантазме участвует — прута или розги — имеет природу чего-то такого, что в символическом плане выступает в виде черты, зарубки или рубца. И хотя наличие таких явлений, как своего рода эмпатия, Einfühlung, которые могут сопровождать физический контакт субъекта с лицом, испытывающим страдания, мы отрицать не будем, на первый план выходит здесь все же нечто такое, что зачеркивает субъект, заграждает, упраздняет его, — одним словом, нечто означающее.
Вывод этот подтверждается уже тем, что впоследствии (все это есть в статье Фрейда, которой я следую здесь шаг за шагом), когда ребенок действительно с телесным наказанием сталкивается (в школе, например, где вполне могут кого-то на его глазах выпороть), удовольствия от этого он отнюдь не испытывает — так утверждает Фрейд, основываясь на опыте своей работы с субъектами, из которых ему удалось историю этого фантазма извлечь. Наоборот, сцена такого рода внушает ему нечто вродеЛ&/ейими§, то есть (я исправляю здесь существующий перевод) отвращение, желание отвернуться. Вынужденный это зрелище наблюдать, субъект, тем не менее, к нему не причастен, он держится на расстоянии. Встретившись в жизни с действительной сценой порки, субъект не горит желани-