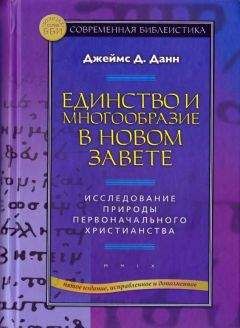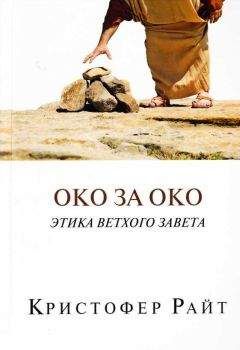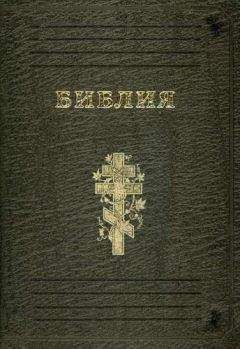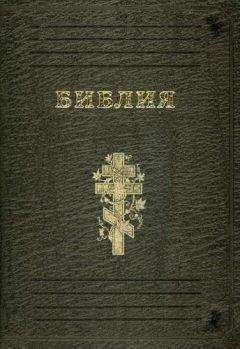Я пытаюсь здесь выразить вот что: эта фундаментальная напряженность столь же фундаментальна для христианства, как и те составляющие фундаментального единства, которые мы уже рассмотрели. В сердце фундаментального единства лежит также и фундаментальная напряженность, неизбежная и неразрешимая до тех пор, пока еврей и христианин идут каждый своим путем. Я постараюсь документально подтвердить это положение и продемонстрировать его важность, ссылаясь на составляющие фундаментального единства, обрисованные выше, и другие элементы согласия, быстро ставшие решающими для раннего христианства.
Воскресение и излияние Духа входят в чаяния Израиля, в его надежды будущего века (напр., Дан 12:2, Иоиль 2:28–32). Но даже и здесь возникает напряженность, ибо христианство утверждает, что эти чаяния уже осуществились, да и самое надежду интерпретирует в свете ее осуществления, уже имевшего место. Воскресение Иисуса как "единичный случай", а не как начало окончательного воскресения перед последним судом, как это, похоже, полагали первые христиане (Рим 1:4 — воскресение Иисуса приравнивается "воскресению мертвых"). Излияние Духа на некий ограниченный контингент "всей плоти", а не часть последних в истории кульминационных событий, отмеченных также и природными катаклизмами, о которых говорит Иоиль. Вот этот элемент — перетолкование чаяний евреев, — проистекающий непосредственно из опыта Христа воскресшего и Духа дарованного, как раз и создает напряженность не только между христианством и его материнской верой, но и внутри самого христианства как иудаизма исполнившегося. Это напряженность между "уже" и "еще нет"[736], напряженность исполнения лишь частичного, неразрывности, в которой содержится разрыв, достаточно глубокий для еврейского наблюдателя, дающий ему достаточное основание задаться вопросом: а исполнение ли это в конце концов?
Иными словами, для того, чтобы почувствовать смысл своего фундаментального единства, христианство должно осознать эти две базисные составляющие христианской веры как эсхатологическое исполнение чаяний иудеев. Но, утверждая это, оно должно перетолковать эти чаяния в свете того, что на самом деле произошло в Пасху и в Пятидесятницу. Проблема задержки парусии, все удлиняющийся интервал между первым и вторым пришествиями Иисуса — просто выражение этой фундаментальной черты христианства. И то же можно сказать о проблеме формулирования удовлетворительных доктрин святости, христианского совершенства, полноты Духа и так далее — в то время как христиане начали с утверждения, что они уже перешли в новый век, уже причастны новому творению, уже вкушают Духа, излившегося в эсхатологической полноте. Эта эсхатологическая напряженность внутренне присуща христианству, каким мы встречаем его в Новом Завете. Каковы ее последствия для выражения фундаментального единства — об этом надо еще думать и думать. Что еще более поразительно, так это то, что стоит нам расширить область фундаментального единства за пределы Пасхи и Пятидесятницы, как оказывается, что та же напряженность между неразрывностью и разрывом с иудейской матерью христианства от него неотделима и непреодолима. Объяснюсь.
а) Христианство и народ Божий. Вера в то, что христианство есть продолжение и эсхатологическое исполнение Израиля, народа Божьего, широко распространена в Новом Завете; это убежденность в том, что верующие во Христа, язычники равно как и иудеи, составляют обновленный, или даже попросту новый Израиль. Особенно важно это для Матфея, Павла и Послания к Евреям, а также заметно выражено в различных формах в писаниях Луки, в четвертом Евангелии, Первом послании Петра и Книге Откровения. Но разрыв, или, говоря исторически, разлад появляется с утверждением, что язычники входят составной частью этого нового Израиля просто в силу своей веры в воскресшего Христа. В этот момент напряженность вступает в самое сердце нашего понимания народа Божьего[737]. Кто это — "народ Божий"? Те, кому был дан завет патриархов? — завет, или "призвание", по словам Павла, "непреложные" (Рим 11:29). Или только те евреи, которые верят в Иисуса как в Мессию? А если язычники входят в него чисто верою, то как быть с евреями, которые (пока) не верят в Иисуса как в Мессию? Эта напряженность не находит своего разрешения в Новом Завете, несмотря даже на старания Павла (Рим 9–11), и ей суждено было разродиться антисемитизмом, этим позорным пятном на теле христианской истории. Она не разрешена и поныне, потому что находится в самом сердце христианства. Крупнейший раскол в истории спасения — не между католичеством и протестантством, не между Востоком и Западом, а между иудаизмом и христианством. Даже если все наши теперешние экуменические усилия окажутся успешными, эта напряженность не разрешится. Даже на уровне фундаментального единства вопрос о том, как относятся друг к другу иудей и христианин в контексте Божьего промысла, остается открытым.
б) То же самое верно по отношению к Писанию. Фундаментальный парадокс, таящийся в самом сердце христианства, состоит в его утверждении, что Ветхий Завет входит составной частью в корпус его Священного Писания. Нет нужды доказывать документально степень неразрывности, поддерживаемой Новым Заветом с Ветхим. Пусть даже, в виде исключения, Иоанновы послания ни разу не цитируют из Ветхого Завета, все равно несомненно, что последний представляет собой фундамент новозаветного богословия[738]. Но и здесь факт разрыва между иудаизмом и христианством не только не может остаться незамеченным, но даже и проявляется особенно резко. Дело в том, что христианство воспринимает в себя иудейское писание очень избирательно. Ссылаясь на Пасху и Пятидесятницу новые, со все большим преобладанием в них язычников церкви пренебрегают целыми частями Ветхого Завета. Законы о жертвоприношении, занимающие центральное место в Пятикнижии, отбрасываются. То же происходит с законами о пище и даже с одной из десяти заповедей — законом субботы. То же — и это, может быть, самое поразительное — происходит с законом обрезания, несмотря на то что он был дан Аврааму в знак Божьего завета с ним, "завета вечного" (Быт 17:11–13). Эта тяга к Ветхому Завету как к Писанию с одновременным отбрасыванием столь многого из этого самого Писания порождает внутри христианства напряженность, которая так и не была разрешена — и, право же, не будет разрешена до тех пор, пока иудей и христианин не объединятся в общем поклонении единому Богу. И это не всё; воспринять столь много глав как Писание за счет игнорирования их очевидного смысла — значит узаконить свободу толкования, чреватую опасностями для нашей собственной интерпретации не только Ветхого Завета, но и Нового. И опять в самом сердце христианства обнаруживаются вопросы, не допускающие простого и окончательного ответа.
в) Нечто подобное можно сказать и относительно богослужения и обряда. И здесь тоже для новозаветных авторов характерно ощущение эсхатологической новизны, новизны будущего века — реальность поклонения и богослужения, преодолевающих формы и структуры былой эпохи и принадлежащих эпохе духовной непосредственности. Богослужение уже не является принадлежностью священного места, Иерусалима например, но поклонением в Духе и истине (Ин 4:20–24). Это — поклонение как совместное, соборное действие, одно тело в богоданном единении и взаимозависимости (1 Кор 12, Рим 12, Еф 4). Поклонение не принадлежит уже старому веку, когда священник должен из года в год приносить известные жертвы, но новому — когда каждый молящийся может непосредственно предстать перед лицом Бога, а священником и посредником выступает один лишь Христос (Евр). Священническая фразеология по–прежнему в ходу, но в ее эсхатологическом исполнении — христианское молитвенное собрание как единое целое — это "священство святое… царственное священство" (1 Петр 2:5.9, Откр 1:6). О жертвоприношении и священническом поприще говорят на том же языке, но это уже жертвоприношение каждого отдельного христианина в контексте повседневных общественных отношений (Рим 12:1)[739], это поприще — уже посвящение себя служению, каковым бы это служение ни было, как говорит об этом Павел, описывая служение свое и Епафродита (Рим 15:16, Флп 2:17, 25).
В этом случае напряженность выражается в том обстоятельстве, что, несмотря на постоянно подчеркиваемый Новым Заветом разрыв с формами иудейского богослужения, уже скоро после этого христианство начинает во все большей и большей степени возвращаться к принципу преемственности, или неразрывности, заново вбирая в себя те категории священства и жертвоприношения, которые оставили в стороне новозаветные авторы. И тут неприятный долг библеиста состоит в том, чтобы задать вопрос: не было ли новое принятие чина священства, по своей сущности отличного от священства всех верующих[740], знамением роковой утраты того эсхатологического взгляда, что имеет столь фундаментальное значение для новозаветного христианства? Или, формулируя еще острее: не сочли бы новозаветные авторы возрождение такого чина священства, более напоминающего чин Аарона, нежели Мелхиседека, возвратом к тому, что Послание к Евреям, безусловно, считает веком тьмы и несовершенства? Очень похоже на то, что в этом вопросе напряженность сосредоточена вне Нового Завета, ибо в нем разрыв обозначен гораздо более отчетливо, чем неразрывность. Или, по–другому, похоже, что напряженность тут лежит где‑то между Новым Заветом, с одной стороны, и христианским преданием, как оно развивалось позже, — с другой. Не сочтите слишком смелым для протестантского библеиста, читающего лекцию в Риме, утверждение о том, что любая попытка христианства прийти в истинное соответствие с эсхатологическим характером своих истоков не может обойти вниманием именно этот вопрос, не может избежать глубоких размышлений о том, как соотносится концепция и практика служащего священства с концепцией и практикой служения всего народа Божьего[741].