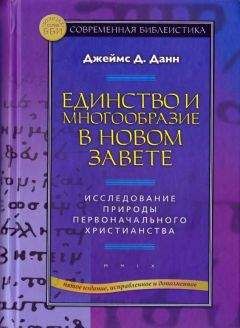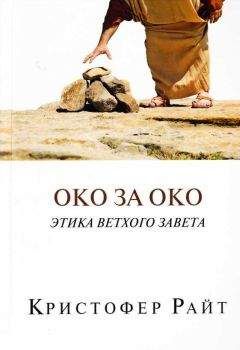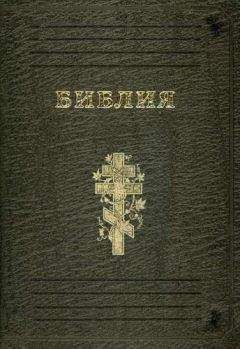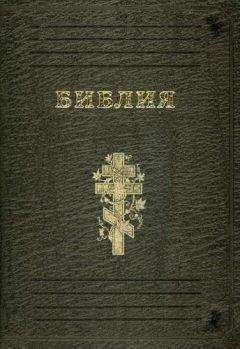г) Нечто подобное можно сказать и относительно других фундаментальных черт раннего христианства. Например, "оправдание верою". Как указал четверть века назад Кристер Стендаль (К. Stendahl), выражение "оправдание верой" стало другим способом сказать, что язычников, в той же мере полноты, как и иудеев, Бог через Христа принимает как детей Своего народа[742]. Как провозглашение спасительной Божьей благости оправдание верой по сути входит в наследие, доставшееся христианству от Ветхого Завета (в частности, Псалтири и Второисайи). Но в своей отличительности в качестве христианской доктрины оправдание верой возникло в точности на стыке иудеохристианской неразрывности–разрыва. Точно так же более поздняя напряженность между лютеранами и католиками по вопросу о вере и делах коренится в напряженности, вызванной раннехристианским перетолкованием завета с Израилем — напряженности, присутствующей уже в Новом Завете между Павлом и Иаковом, напряженности, неизбежной в рамках христианства в силу того, что корни его — в откровении, данном Израилю.
Следует заметить, что вытекающая отсюда напряженность акцентируется на том, что заповедь любви в христианской этике занимает центральное место. Полемика между иудаизмом и христианством состояла не в том, является ли заповедь "возлюби ближного как самого себя" правомочным резюме закона, управляющего взаимоотношениями людей. В иудаизме нашлось бы много таких, которые согласились бы с Иисусом и Павлом, что Лев 19:18 обобщает именно такие общественные отношения, а "ближним" может быть и язычник. На деле спор шел о том, является ли достойным проявлением любви к ближнему только приведение его под сень закона[743], или ее можно предоставлять ближнему безо всяких условий. В этом коренится имевшаяся внутри христианства в XII в. напряженность между старомодным "евангелическим" евангелием и так называемым "общественным евангелием".
Сюда же мы можем включить даже и учение о Боге. Напряженность внутри христианского понимания Бога возникает именно в силу неодолимой потребности для христиан придавать откровению Христа присущую ему значимость — но в рамках иудейской доктрины единого Бога[744]. Христианское учение о Троице — не столько разрешение напряженности, сколько способ жить с ней, эвристическое определение Бога, признание того, что тайна Бога не может уместиться в узких рамках неадекватных человеческих формулировок. Христианское учение о боговоплощении возникло как способ утверждения, что самооткровение Божье приняло решительное и окончательное выражение не в письменной Торе, но в лице человека, Иисуса Назорея, и это откровение допускает гораздо меньше возможностей для сведения его к любой конкретной словесной форме.
д) Наконец, назовем два (неоспоримых) таинства. Здесь мы находимся ближе всего к составляющим фундаментального единства, ближе, чем где‑либо еще в Новом Завете. Действительно, крещение во имя Христа было, судя по всему, сугубо христианским элементом с самого начала и воспринимается новозаветными авторами как нечто само собой разумеющееся. Далее, слова, сказанные Иисусом в ночь, когда Он был предан, хранились, как святыня, передавались от одного к другому, сохранялись в памяти, повторялись регулярно — и тоже с самого начала. Но и здесь невозможно избежать фундаментальной напряженности, вызванной иудейским происхождением христианства. Является ли крещение, как обрезание, метой семейной, племенной или национальной принадлежности? Или это эквивалент обновленного завета, лучше характеризуемый как "обрезание сердца", пятидесятничный дар Духа, данный по вере в воскресшего Христа?[745] Напряженность, которой все еще подвержено христианское понимание крещения, особенно в том, как оно соотносится с верой, рождается из непрерывности–разрыва обновленного завета со старым и как таковая неотвратима. Далее, как соотносится вечеря Господня с пасхальной трапезой и с застольным содружеством, которое было такой яркой отличительной чертой служения Иисуса, служения, не в последнюю очередь, среди "мытарей и грешников"?[746] До какой степени являются напряженности, которым до сих пор подвержено наше понимание евхаристии, прямым результатом нашего абстрагирования ее от первоначального контекста — трапезы — и подгонки ее к обряду священника и жертвоприношения? И снова возникают вопросы, кажущиеся неизбежными в силу фундаментальной напряженности, возникающей из иудейских начал христианства.
Резюмирую: в самом сердце фундаментального единства, которое мы находим в Новом Завете, мы находим также и фундаментальную напряженность. Христианство осознает себя в неразрывной преемственности с ветхозаветной верой и иначе осознавать себя не может. В то же время оно вынуждено идти на ту или иную степень разрыва с Ветхим Заветом — для того, чтобы придать смысл своим специфически христианским утверждениям; в частности, утверждая исполнение Ветхого Завета, оно трансформирует одни базисные иудейские категории и упраздняет другие. Эта неразрывность и этот разрыв суть силы, тянущие христианство в разные стороны и создающие внутреннюю напряженность, являющуюся его частью. Напряженности, которые в последующих поколениях грозили разорвать христианство на две, или более, части, были в нем изначально. Они внутренне присущи христианству как порождению иудаизма, каким он был до Христа.
Кратко говоря, когда мы поднимем глаза и посмотрим дальше, за коренные составляющие фундаментального единства, мы по–прежнему окажемся на фундаментальном уровне христианского самоосознания. Но при этом мы обнаружим, что это самоосознание включает в себя напряженность, которая пронизывает христианство насквозь, поскольку связана с незавершенным диалогом с иудаизмом, из которого оно выросло, неразрешенной двусмысленности, неоднозначности в продолжающихся отношениях христианства с иудейским Писанием, верой и народом, свидетельствовать перед которым оно призвано. Отсюда, мне кажется, ясно следует, что, пока этот диалог не завершен, пока эта двусмысленность не разрешена, нет христианству надежды достичь окончательного выражения своей веры и своего поклонения как народа Божьего.
Это подводит нас к последнему из главных разделов.
4. Фундаментальное многообразие
Феномен фундаментального многообразия в Новом Завете является прямым следствием тех двух отличительных черт, на которые мы уже обратили свое внимание. Одна — это многообразие ситуаций и сугубо человеческих контекстов, в которых евангельская весть изначально нашла свое выражение, и то обстоятельство, что каждое выражение евангельской вести было в той или иной степени обусловлено и сформировано своей конкретной ситуацией и контекстом. Многообразие выражения явилось неизбежным следствием этого. Другая черта — это только что описанная и проиллюстрированная фундаментальная напряженность; впрочем, последняя служит фактором многообразия не во всех случаях одинаково. Но и та, и другая черта суть, конечно же, следствие того непреложного факта, что любая попытка говорить о Боге обречена быть паллиативом, любая попытка заключить божественную реальность в рамки человеческой речи и человеческого поведения неизбежно — пусть в большей или меньшей степени, но неадекватна, сколь "адекватной" мы бы ни считали ее для практических целей общего вероисповедания и богослужения.
Это справедливо даже относительно наших нормативных установок, находись они в Новом Завете или где‑либо еще. Как я указывал в "Единстве и многообразии в Новом Завете", не существует единственной формулировки Благой вести, которая бы оставалась неизменной во всем Новом Завете. В различных контекстах и у разных авторов мы находим Благую весть, выраженную в различных формах, содержащую различные элементы. Пасха и Пятидесятница сохраняют большее или меньшее постоянство — призыв к вере в воскрешенного, сопровождаемый обетованием Духа. Но даже и они выражены по–разному. Чтобы достичь всеобщности формулировок, нам пришлось бы отвлегъся, абстрагироваться от многообразия форм и резюмировать их в словах, которые, может быть, вовсе не были использованы новозаветными авторами. Даже слова "Пасха" и "Пятидесятница" служат такими лозунгами–абстракциями. Мы можем достаточно уверенно говорить об одной и той же евангельской вести, находящей свое выражение во всех этих конкретных возвещениях, но в то же время мы должны принять горькую правду — окончательного или окончательно определенного выражения этой вести не существует[747].
Многообразие в пределах Нового Завета можно продемонстрировать без особого труда. Например, сам факт наличия четырех Евангелий. Ни один из связных рассказов о жизни и служении Иисуса, о Его смерти и воскресении не был признан достаточным. И это многообразие достаточно широко и достаточно гибко, чтобы содержать, к примеру, два характерно различных изображения отношения Иисуса к закону — у Матфея и у Марка. Марк может спокойно допустить, что своим словом и делом Иисус подорвал или даже упразднил целый пласт закона (о чистой и нечистой пище — Мк 7:15; 18–19). Матфей же, напротив, считает необходимым изобразить Иисуса отрицающим всякое намерение такого рода (Мф 5:17–20)[748]. Здесь фундаментальная напряженность со всей силой работает в строго противоположных направлениях — потому, надо полагать, эти Евангелия были адресованы двум совершенно разным группам христиан, которые различались также и в своем понимании и использовании закона, но и та и другая могли искать в этом вопросе руководства в служении Иисуса.