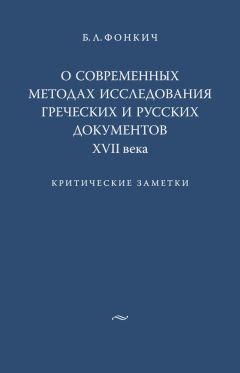На пороге исторической жизни Греции новый культ, резко несовместимый с ее всегдашним чувством меры и предела, проник в нее из страны буйных сил и бурных страстей, из Фракии — культ Диониса. Первоначально это было, вероятно, магическое воздействие на плодородие земли, и в необузданной варварщине половой разгул как симпатическое средство побуждения земли к плодородию не был ему чужд; при переходе, однако, на почву «благозаконной» Эллады, этот элемент должен был отпасть; осталось, как характерная черта новых таинств, исступление (ekstasis), достигаемое при помощи оглушительной музыки тимпанов, кимвалов и флейт (т. е. тамбуринов, медных тарелок и кларнетов) и главным образом — головокружительной «оргиастической» пляски. Особенно подвержены чарам исступления были женщины; вакханки составляли поэтому главную свиту нового бога; в своих «небридах» (т. е. ланьих шкурах), препоясанных живыми змеями, с тирсами в руках и плющевыми венками поверх распущенных волос — они остались незабвенным на все времена символом прекрасной дикости, дремлющей в глубине человеческой души — но прекрасной лишь потому, что красотой наделила ее Эллада.
В исступлении пляски душа положительно «выступала» из пределов телесной жизни, преображалась, вкушала блаженство внетелесного, слиянного с совокупностью и с природой бытия; на собственном непреложном опыте человек убеждался в самобытности своей души, в возможности для нее жить независимо от тела и, следовательно, в ее бессмертии; таково было эсхатологическое значение дионисиазма. Он завоевал всю Грецию в VIII–VII веке в вихре восторженной пляски. Эрв. Роде, лучший исследователь этого явления, убедительно сравнивает с ним "манию пляски" ("Tanzwut"), обуявшую среднюю Европу после великой чумы XIII в. Конечно, умеряющая религия Аполлона постаралась сгладить излишества нового культа: Дионисовы «оргии» были ограничены пределами времени и места, они могли справляться только на Парнассе и притом раз в два года (в так называемых "триетеридах"), В прочей Греции дионисиазм был введен в благочиние гражданского культа; его праздники, как мы видели (стр. 31), были приурочены к работе винодела, и лишь в играх ряженых и поэтическом преображении Дионисова театра сохранились следы первоначального исступления.
По-видимому, это укрощение первобытного дионисиазма вызвало новую его волну из той же Фракии, отмеченную именем Дионисова пророка Орфея, И эта волна подпала умеряющему воздействию Аполлоновой религии; результатом этого воздействия были Орфические таинства, состоящие из трех частей: космогонической, нравственной и эсхатологической.
Космогоническая часть орфического учения примыкала к более старинному мифу о победе Зевса над Титанами (ср. ниже стр. 90) и основанном путем насилия царстве богов. Чтобы иметь возможность передать его из запятнанных насилием рук в чистые, Зевс делает матерью царицу подземных глубин Персефону, и она рождает ему первого Диониса — Загрея. Но мстительные Титаны завлекают младенца Диониса к себе соблазном его отражения в их зеркалах и, завлекши, разрывают на части, которые и поглощают. Сердце спасает Паллада и приносит Зевсу; поглотив его, он вступает в брак с Семелой, дочерью Кадма, и она рождает ему (второго) Диониса. От Титанов же произошел человеческий род.
Здесь к космогонической части, в которой первобытная фракийская дикость так странно преображена греческим глубокомысленным символизмом, примыкает нравственная. Раз мы происходим от поглотивших первого Диониса Титанов, то, значит, наше душевное естество состоит из двух элементов — титанического и дионисического. Первый тянет нас к телесности, к обособлению, ко всему земному и низменному; второй, наоборот, к духовности, к воссоединению в Дионисе, ко всему небесному и возвышенному. Наш нравственный долг — подавить в себе титанизм и содействовать освобождению тлеющей в нас искры Диониса. Средством для этого служит объявленная в Орфических таинствах посвященным "орфическая жизнь". В число ее обязанностей входило и воздержание от убоины; оно было внушено соображением, о котором речь будет тотчас.
Действительно, из нравственного учения вырастает эсхатологическое. Живой Дионис, сердце Загрея, жаждет воссоединения со всеми частями его растерзанного тела. Целью жизни каждого человека должно быть поэтому окончательное освобождение той его частицы, которая в нем живет, и ее упокоение в Великой сути целокупного Диониса. Но путь к этому очень труден. Титанизм является нам постоянной помехой, соблазняя нас к новой индивидуации и новому воплощению. И вот мы рождаемся и умираем, и вновь рождаемся, все снова и снова замыкаем свою душу в «гробу» ее «тела» (soma — sema), все снова и снова воплощаемся — между прочим и в звериных телах (почему Орфей и приказывает воздерживаться от убоины) — и нет конца этому томительному "кругу рождений", пока мы, наконец, не внемлем голосу Диониса, не обратимся к "орфической жизни". И тогда мы спасемся не сразу. Трижды мы должны прожить свой век безупречно. и здесь, на земле, и в царстве Персефоны, пока, наконец, не настанет для нас заря освобождения, воссоединения и упокоения.
Пребывание в царстве Персефоны перед новым воплощением понимается, как время очищения от грехов жизни; ее обитель — для большинства людей чистилище. Кто безгрешно провел земную жизнь, тот и на том свете проводит жизнь в блаженстве, во временном раю — пока голос Необходимости не призовет его обратно на землю для новых испытаний. Но есть и такие, которые запятнали себя «неисцелимыми» злодеяниями; для них нет очищения, они терпят вечную кару в аду. Вот почему каждую душу после смерти ждет загробный суд; строгие и неподкупные судьи должны определить, в которую из трех обителей ей надлежит отправиться.
Орфические таинства, в отличие от Элевсинских, не были прикреплены к какому-нибудь городу: повсюду в Греции, особенно в колониальной на Западе, возникали общины орфиков, жившие и справлявшие свои праздники под руководством своих учителей. Конечно, от личности последних зависели и чистота, и духовный уровень самого учения; и если с этой точки зрения большинство «орфеотелестов», пугавших простой народ ужасом загробных мучений, и вызывало подчас насмешки просвещенных, то с другой стороны серьезные проповедники учения сумели поднять его на такую высоту, что не только поэты, подобно Пиндару, но и философы подчинялись его обаянию. Великий Пифагор сделал орфизм центральным учением своего ордена — настоящей масонии, имевшей в VI в. свою главную ложу в Кротоне, а начиная с V приблизительно до II — в Таренте. И через пифагорейцев, и независимо от них подпал орфизму и Платон; правда, в специально догматической части своего учения он не делает ему уступок, но в тех фантастических «мифах», которыми он украсил своего «Горгия», "федона" и в особенности последнюю книгу «Государства», сказывается в сильнейшей степени влияние орфической эсхатологии. И оно им не ограничилось: отчасти через широкое русло его философии, но более посредством подземных струй, лишь ныне отчасти раскрываемых, она вливается и в христианство. Церковь иногда старалась воздвигнуть против нее плотину Евангелия, — иногда же и нет, находя, что те или другие частности (напр., учение о чистилище) не противоречат ему и даже, пожалуй, им рекомендуются. Как бы то ни было, орфизм в значительной степени скрасил христианские представления о загробном мире: без Орфея и Данте немыслим.
Глава VII
РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ
§ 29
Ученый филолог и знаток греческой религии Г. Ф. Шеман во втором томе своих "Греческих древностей" (стр. 164 4-го изд.), процитировав вышеприведенное (стр. 70) вступление к законам Залевка, продолжает:
"Тем более возбуждает наше удивление, что ни Залевку, ни Солону, ни кому бы то ни было из других законодателей не пришло в голову или не оказалось возможным позаботиться, путем соответственных учреждений, соединенных с культом, о правильном и истинном обучении народа и распространении настоящей богобоязни".
Выписываю эти слова в дословном переводе, так как в них сказалась бесподобным образом вся узость христианской и даже протестантской точки зрения, вся ее беспомощность перед лицом такой полной, такой всеобъемлющей религии, какой была греческая. Надеюсь, что читатель, внимательно следивший за ходом нашего рассуждения, найдет их так же странными, как и автор этой книги. Представить себе, что эллин эпохи Платона, черпавший непосредственное откровение божества из созерцания Фидиева Зевса и участия в обрядах элевсинского праздника и им наставляемый в духе настоящей — правда, не богобоязни, а боголюбви, — что этот эллин нуждался еще в особых уроках закона Божия и чем-то вроде краткого катехизиса Лютера!
Шеман как протестант ответил бы, конечно, что образ и обряд — лишь притча, а настоящее богооткровение бывает лишь в слове. И в этом он как протестант и ошибся бы; ибо слово, раз речь идет о боге, такая же притча, только гораздо менее действительная. Грек был не только интеллектуалистом, но и отцом нашего интеллектуализма; но все же он сознавал, что религия — область не интеллекта, а чувства, сознавал то, что много веков спустя высказал его лучший ученик Гете в бессмертных словах своего Фауста. Образ и обряд — вот самые могучие проводники религиозного чувства; я и выдвинул их надлежащим образом в настоящем изложении греческой религии. Но, поговорив о них достаточно в пределах этой краткой книжки, перехожу и к третьей притче — к притче слова.