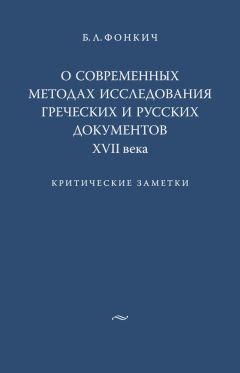Шеман как протестант ответил бы, конечно, что образ и обряд — лишь притча, а настоящее богооткровение бывает лишь в слове. И в этом он как протестант и ошибся бы; ибо слово, раз речь идет о боге, такая же притча, только гораздо менее действительная. Грек был не только интеллектуалистом, но и отцом нашего интеллектуализма; но все же он сознавал, что религия — область не интеллекта, а чувства, сознавал то, что много веков спустя высказал его лучший ученик Гете в бессмертных словах своего Фауста. Образ и обряд — вот самые могучие проводники религиозного чувства; я и выдвинул их надлежащим образом в настоящем изложении греческой религии. Но, поговорив о них достаточно в пределах этой краткой книжки, перехожу и к третьей притче — к притче слова.
Потребность облечь в несовершенную ризу слова полноту религиозного чувства появилась в Греции рано — задолго до Гомера. Сознавая себя прежде всего во власти религии природы, сам в ней участвуя как часть этой природы, человек замечал ее бурную жизнь, которую можно было понимать либо как борьбу, либо как развитие. Свет борется с тьмой, теплота борется со стужей — да, но точно так же день исходит от ночи, лето исходит от зимы. Обе концепции подсказали человеку обе основные притчи позднейшей мифологии — притчу борьбы и, следовательно, раздора и притчу рождения и, следовательно, полового совокупления. Уран (Небо), оплодотворив Землю, рождает Титанов и Титанид, представителей буйных сил природы. Но Земля, теснимая собственными порождениями, взмаливается к младшему из Титанов, Кроносу, и он по ее просьбе лишает своего отца его детородной силы. Затем, после собственного совокупления с Титанидой Реей (второй ипостасью той же Земли), он рождает могучее поколение богов; предвидя себе гибель от него, он поглощает свои порождения; но одно из них, Зевса, Рея спасает, и Зевс в мировой борьбе побеждает Кроноса с Титанами и, бросив их в Тартар, основывает собственное царство, при котором живем мы. Правда, и он ждет себе возмездия, и ему родится сын, который будет могучее его, и ему суждено поражение от возрожденных сил Земли, от Гигантов. Мы видели уже (стр. 87), как к этой космогонии примыкает космогония орфизма. Иначе к ней отнеслась религия Аполлона, провозгласившая вечность царства Зевса с примиренной Землей и устранившая кошмар «гигантомахии»… не вполне, впрочем: старинный страх продолжает дремать в чуткой душе людей, и еще в 1 в. по Р.Х., когда с Везувия поднялась туча, засыпавшая Помпеи, греки неаполитанской области ясно различали в ее фантастических очертаниях чудовищные образы Титанов, возвратившихся через жерло огненной горы с Тартара, чтобы поглотить царство богов и людей.
В поэме Гесиода эта «Теогония», порождение глубокой древности, дошла и до исторических времен; что было с ней делать? Ведь к тому времени давно успело укрепиться сознание объявления бога в добре, а добра в этой мифологии восстаний сына против отца и совокуплений брата с сестрой было очень мало… Что было делать? Да то же, что делали со старинными, грубыми изваяниями Дедала при наличности Зевса Фидия; оказывая почтение несовершенным откровениям старины, питать свой дух более совершенными новых времен. Да, но ведь они были вредны: у Аристофана в «Облаках» ясно представлено, как ими пользуются софисты, чтобы опровергнуть самую идею правды:
Да ведь если бы Правда жила средь богов —
Объясни мне, как мог не погибнуть Зевес,
Заключив в подземелье родного отца?
Да мало ли чем софисты не пользовались! И у Аристофана противник говорящего дает единственно правильный ответ, указывая на тошнотворный характер его рассуждения:
Ну, конечно, опять эта гадина! — тьфу,
Принеси мне лохань кто-нибудь поскорей!
Ведь в том-то и дело, что ни «Теогония» Гесиода, ни какая бы то ни было другая книга старины не была канонической. Есть у нас религиозное чувство; что для него приемлемо, то и действительно, остальное для нас не существует.
Правда, и в эпоху Сократа были люди, истолковывавшие по-своему старинные мифы о раздорах богов и находившие их в этом толковании приемлемыми; Платон выводит перед нами такого богослова в лице Евтифрона, человека очень интересного и по-своему глубокого. Ему отвечает Сократ: "Не за то ли, Евтифрон, и обвиняют меня, что я неохотно прислушиваюсь к людям, утверждающим подобные вещи (т. е. вражду и насилие) о богах?"
Ответ дан под гнетом рокового для афинского мудреца обвинения и дышит поэтому горечью, незаслуженной Афинами; в самый разгар Пелопоннесской войны Еврипид безнаказанно высказал такую же мысль устами своего Геракла:
А все же я… не верил и не верю,
Чтоб бог вкушал запретного плода,
Чтоб на руках у бога были узы:
Все это — бредни дерзкие певцов.
§ 30
Оставим, однако, Дедалов словесного откровения, перейдем к его Фидиям и Праксителям. Сосредоточивая свое внимание на Афинах IV и III вв., мы этим самым избавляем себя от необходимости проследить историю греческой религиозной философии через учения ионийцев, элеатов, Эмпедокла, софистов; они отпали к нашему времени, поскольку не возродились в Платоне и других. И если мы сделали исключение для древнейшей теогонии, то потому только, что она осталась на поверхности, живя в поэмах Гомера и особенно Гесиода.
Согласно сказанному, мы будем иметь дело с притчей Платона, Аристотеля, Стои, Эпикура, с символическим изречением неизреченного. Все эти мудрецы действуют резцом своего логоса, стремясь к возможному для них совершенству; все они оправданы честностью своей умственной работы. А к этой честности принадлежит и сознание пределов своего логоса, сознание основной неизреченности изрекаемого и вытекающая из него терпимость. И этой терпимостью они вдвойне оправданы.
И еще одно надлежит предпослать. Наша религиозная схоластика уже давно завела якобы основное деление религий на монотеистические и политеистические и признала последние, в сравнении с первыми, «несовершенными», что опять-таки дало ей право ставить даже ислам выше религии Периклов и Софоклов, т. е. довести себя до абсурда. Сроднившийся с этим предрассудком читатель бывает обыкновенно очень удивлен, видя, что вопрос о монотеизме или политеизме даже не ставится названными мыслителями. Его упразднила с давних пор греческая религия. Сколько Муз — одна или много? А Харит? А Эриний? Еще лучше: в Олимпии была признана система двенадцати богов, один алтарь был посвящен Зевсу и Посейдону, один Гере и Афине, и т. д. и, наконец, один — Дионису и Харитам, "так что, — поучает нас Шеман (II, 142), — в виду многости последних, число двенадцать собственно нарушено". Положительно, выходит, что греки считать не умели.
На самом деле они прекрасно чувствовали, что в области божественности единство и многость сливаются, и это ставит их религиозное сознание не ниже, а выше нашей схоластики. В дискурсивном мышлении соответственную работу проделала школа элеатов: она пришла к результату, что единое есть, но как нечто непредицируемое, лишенное всяких свойств, всякой действенности; а действенным оно становится, лишь преломившись во многости. Для мыслящего человека этим устранен вопрос о том, была ли греческая религия монотеистической или политеистической.
Она была той и другой также в философии Платона, приведшего бога или богов в интимное соприкосновение с человечеством на почве его величавого учения об идеях. Правда, не сразу достиг он этих метафизических высот. Он очень чувствителен к красотам видимого мира, к бессмертию живущих в нем пород; его Эрот — божественная сила, сводящая в восторге мужскую и женскую особи в видах продления породы, "любовь — жажда рождения в красоте ради достижения бессмертия". Так понимает он глубокомысленное учение о любви пророчицы Диотимы. Но он чает красоту выше красоты видимого мира, он поднимается над ним на крыльях орфизма — и тут тело представляется ему уже лишь темницей души, а смерть — освобождением. Ее истинная родина — обитель Аида; здесь обретет она полноту своих сил, ослабленных вожделениями тела, остроту взора, затуманенного его покровом…
Нет, не обитель Аида, а наднебесное пространство. Здесь в сияющей недвижности пребывают совершенные прообразы того, что нам лишь казалось совершенным на земле, пребывают вечные идеи, созерцание которых — истинная пища бессмертия и для богов, и для души. Боги в силу своего совершенства вкушают ее беспрепятственно; они, поэтому, от природы бессмертны. Но души наши — это колесницы, запряженные каждая парой коней, конем сильной воли и конем чувственного вожделения, и управляемые возницей разума. И когда они, примыкая к объезду богов по наднебесной обители идей, стараются их созерцать, чтобы и самим вкусить пищу бессмертия — конь чувственного вожделения упрямо их тянет вниз, в область поднебесного тумана, и для многих душ становится причиной падения.