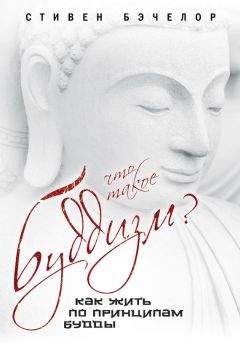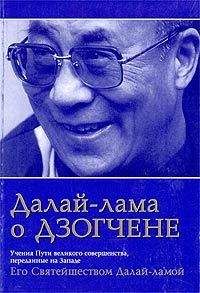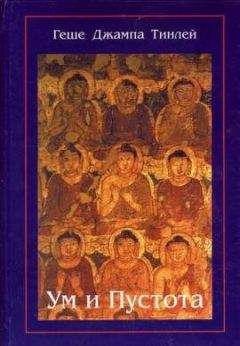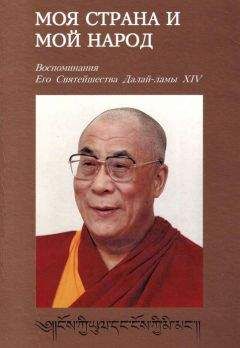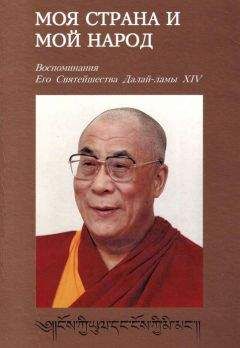Сущность пробуждения Готамы состояла в его окончательном принятии обусловленности бытия. Свобода, для Готамы, означает свободу от жадности, ненависти и от неведения. Такое освобождение (нирвану) можно обрести не путём ухода из мира, а путём глубокого постижения его обусловленной природы
Брахманы того времени утверждали, что человека оживляет вечная душа или самость (атман), природа которой идентична трансцендентной, совершенной реальности Брахмана (Бога). Эта идея весьма соблазнительна, ведь согласно этой идее мы действительно никогда не умрем. И она убедительна, потому что ее, как кажется, подтверждает наша естественная интуиция, что мы являемся неизменяющимися свидетелями вечно меняющегося опыта. Стайка скворцов в небе, вкус персика или мелодия Шестого бранденбургского концерта Баха могут прийти и уйти, но ощущение тождественности того, кто воспринимает все эти вещи, остается тем же самым.
С самого раннего детства и до сих пор я интуитивно убежден, что одно и то же сознание было и продолжает оставаться свидетелем каждого события моей жизни. Когда я смотрю на свои детские фотографии или размышляю о том, как я вырос и изменился за эти годы, я понимаю, что этот вечный свидетель не может быть тем же самым, что и озадаченный маленький мальчик, непослушный подросток, благочестивый молодой монах или скептичный человек средних лет. Все эти мои ипостаси являются только различными проявлениями моего «эго» или «личности», но не имеют никакого отношения к основе, неизменной самости, которая знает и помнит эти вещи.
В то же время одно из самых тревожных воспоминаний моего детства связано со случаем, когда моя мать, сама того не ведая, подорвала мою инстинктивную уверенность в том, что значит быть «мной». Было Рождество, мне было около шестнадцати. Моя мать и ее сестра, тетя Бетти, листали альбом с фотографиями за кухонным столом. Они остановились на снимке человека в военном френче – глаза прищурены от солнца, трубка зажата между зубов. Мать сказала мне: «Если бы все сложилось иначе, он мог бы стать твоим отцом». Я подумал: Но если бы этот человек был моим отцом, то был бы я собой? Я размышлял: если бы какой-то другой из бесчисленных сперматозоидов моего настоящего отца оплодотворил яйцеклетку моей матери, тот ребенок, который родился бы от такого смешения хромосом, был бы мной или нет? А если бы этот сперматозоид попал в яйцеклетку в какое-то другое время, был бы этот ребенок мной?
Несмотря на эти проблески осознания собственной обусловленности, убежденность в том, что я был неизменным, вечным свидетелем жизни, оставалась для меня столь же устойчивой и самоочевидной, как знание, что солнце встает каждое утро на востоке и заходит на западе. Кажется, я предрасположен воспринимать свою самость и мир таким образом. Но, несмотря на бесспорную очевидность того, что я вижу, я знаю, что движется Земля, а не Солнце. Готама сделал в отношении самости то же, что Коперник в отношении Земли: он поставил ее на ее законное место, хотя она по-прежнему представляется нам такой же, как и раньше. Готама не в большей степени отрицал самость, чем Коперник отрицал существование Земли. Просто вместо представления о ней как о фиксированной, независимой точке, вокруг которой вращается все остальное, он осознал, что самость – это изменчивый и обусловленный процесс, как и все остальное в этом мире.
...
Готама сделал в отношении самости то же, что Коперник в отношении Земли: он поставил ее на ее законное место, хотя она по-прежнему представляется нам такой же, как и раньше. Готама не в большей степени отрицал самость, чем Коперник отрицал существование Земли. Просто вместо представления о ней как о фиксированной, независимой точке, вокруг которой вращается все остальное, он осознал, что самость – это изменчивый и обусловленный процесс, как и все остальное в этом мире
Представление, что человек состоит из вечной духовной сущности, временно соединенной с порочным и преходящим телом, было широко распространено по всему древнему миру. От Варанаси до Афин мудрецы и философы полагали, что после физической смерти душа перерождается согласно своим благодеяниям или злодеяниям в виде человека, животного или какой-то другой формы жизни. Поэтому спасением считалось освобождение души от тела, которое достигалось посредством аскетической жизни, философских размышлений и медитативных практик. Предполагалось, что эти духовные упражнения должны приводить человека к постижению, что истинная природа души не имеет никакого отношения к телу, но тождественна трансцендентной природе Бога. Поэтому цель человеческой жизни состоит в мистическом единении отдельной души с Абсолютом.
«Неразумные следуют внешним желаниям, – говорится в древнеиндийской Катха Упанишаде, – и попадают в распростертые сети смерти. Мудрые же, узрев бессмертие, не ищут здесь постоянного среди непостоянных вещей…. Когда прекращаются все желания, обитающие в сердце, смертный становится бессмертным и достигает Брахмана здесь». «А пока мы живы, – говорил в Федоне древнегреческий современник Готамы Сократ, – мы, по-видимому, будем ближе всего к знанию, когда как можно больше ограничим свою связь с телом и не будем заражены его природою, но сохраним себя в чистоте до той поры, пока сам Бог нас не освободит».
Готама утверждал, что его пробуждение к осознанию обусловленной природы жизни шло «против течения». Пробуждение было парадоксальным. Оно шло вразрез с инстинктивным представлением, что ты являешься неизменным свидетелем опыта. Оно противоречило вере в вечную душу и косвенным образом – в трансцендентную реальность Бога. Вместо удаления от мира ради единения с Богом, Готама призывал своих последователей обращать пристальное, проникающее в суть вещей внимание на возникновение и исчезновение самого феноменального мира. Способ, которым он представил практику медитации, переворачивал с ног на голову мудрость того времени. Он не учил обращать внимание внутрь себя, чтобы изучать природу своей души. Он говорил своим ученикам, чтобы они чутко ощущали свое тело, спокойно воспринимая то, что воздействует на чувства в тот или иной момент времени, отмечая для себя появление и исчезновение ощущения, его мимолетность, его нейтральность, приятность или болезненность, его очарование и его ужас.
...
Готама утверждал, что его пробуждение к осознанию обусловленной природы жизни шло «против течения». Пробуждение было парадоксальным. Оно шло вразрез с инстинктивным представлением, что ты являешься неизменным свидетелем опыта. Способ, которым он представил практику медитации, переворачивал с ног на голову мудрость того времени
Чтобы описать практику внимательности, он использовал практичные и почерпнутые из повседневного опыта метафоры. Он сравнивал созерцателя с умелым плотником и мясником, которые научились использовать свои инструменты с необыкновенной точностью и могут обработать кусок древесины или разделать тушу с минимальной потерей сил и максимальной пользой. Он описывает внимательность не как пассивное сосредоточение на единственном, постоянном объекте, но как обновленное отношение к изменчивому, сложному миру. Внимательность – это умение, которое можно в себе развить. Это выбор, действие, реакция, порождаемые спокойным, но пытливым умом. Кроме того, внимательность – это чуткое, внимательное отношение к особой структуре собственного и чужого страдания.
Учение Готамы было пощечиной ортодоксальным учителям своего времени. Поэтому сразу после своего пробуждения он заметил, что ему будет «утомительно и трудно» учить других. В конце концов, люди стремятся к вечной жизни и не хотят признавать неизбежность смерти; они хотят счастья и избегают боли; они хотят сохранять свое самосознание, а не вскрывать противоречия в его изменчивых и безличных компонентах. В его учении парадоксально все: и то, что бессмертие можно переживать каждое мгновение, когда мы освобождаемся от смертельной хватки жадности и ненависти; и то, что счастье в этом мире возможно для тех, кто понимает, что этот мир не может принести счастья; и то, что полностью индивидуализированной личностью становится только тот, кто отказался от веры в бытие самости.
...
Сиддхаттха Готама был инакомыслящим, радикалом, бунтарем. Он отказывался играть роль пробужденного гуру, который требует некритического поклонения, прежде чем приобщить своих учеников к учениям, предназначенным для духовной элиты.
Сиддхаттха Готама был инакомыслящим, радикалом, бунтарем. Он не хотел иметь ничего общего со священнической религией брахманов. Он отвергал ее богословие из-за его запутанности, ее ритуалы – из-за их бессмысленности, общественное устройство и законы – из-за их несправедливости. Но он прекрасно понимал ее внутреннюю привлекательность для людей, ее влияние на человеческие разум и сердце. Он отказывался играть роль пробужденного гуру, который требует некритического поклонения, прежде чем приобщить своих учеников к учениям, предназначенным для духовной элиты. Но он не мог молчать. Наступил момент, когда он должен был действовать. Он понял, что должны быть люди, «у которых не так засорены глаза», кто поймет его. Поэтому он оставил свое дерево в Урувеле и пошел в Варанаси, где, как он знал, некоторые из его бывших товарищей, пять брахманов из племени сакьев, оставались в Оленьем парке [5] возле деревни Исипатана.