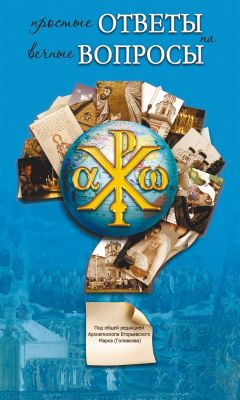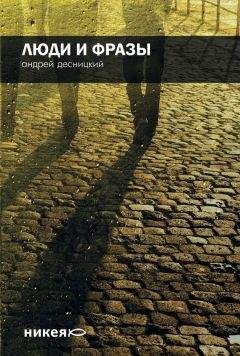Вектор же этой любовной силы очевиден: сотворить добро любимому, помочь, спасти, «положить жизнь за други своя». Итак, любовная сила тревожит человека, побуждая его помогать, спасать, жертвовать собой. И трагедия религиозной любви состоит в том, что Бог, на Которого она направлена, самодостаточен. Ему невозможно оказать даже мелкой услуги. Христос в Гефсиманском саду отклоняет заступничество Петра словами: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? (Мф. 26, 52–53).
К счастью, там, где невозможно что-то «сделать для», всегда остается возможность «сделать ради». Эта возможность, если ею воспользоваться, не оставляет места несчастью неразделенной любви. Наверное, поэтому Христос указывает на возможность обратить на ближнего ту любовь, которая стремится к Богу: Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алнущим, и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне (Мф. 25, 37–40).
Посты и молитвенные стояния, обеты и разнообразное служение в миру, как все прочие тяготы, это не самоцель веры, а ее плоды. Иногда – упражнение в любви. Так что вериги – в самом широком смысле – это не инструмент для умерщвления плоти. Это всего-навсего «гири», которые привязал к своим сильным ногам «скороход» Симон Петр. Он не мог не бежать, но после Гефсимании, Воскресения и Вознесения убедился в том, что «торопиться ему некуда».
С.А. Мазаев
Разум, занятый поиском истины, встречает на своем пути три группы проблем, которые традиционно относят к разряду сверхсложных. Таковы, например, математические задачи «Миллениум», многие из которых ждут своего решения уже не одну сотню лет. Ученый, который успешно справится хотя бы с одной из них, несомненно, будет признан гением. Существуют ситуации, которые вообще не могут быть распутаны логическим путем. Это так называемые парадоксы, способные убедить гордого человека в том, что сложность мира превосходит его аналитическую способность: «Есть много в мире, друг Горацио, что и не снилось здешним мудрецам». И наконец, есть философские коллизии, традиционно называемые «вечными вопросами». То обстоятельство, что некоторым людям все же удается справиться с ними, заставляет отличать «вечные вопросы» от парадоксов. А то, что для решения здесь не требуются специальные знания и гениальность мышления, дает основание полагать, что «вечные вопросы» нельзя отнести и к разряду сложнейших задач науки.
Специфика большинства философских вопросов вообще заключается в том, что они не могут быть решены чисто теоретически. Среди философов известен профессиональный анекдот о красавице и ее поклоннике, позволяющий уяснить особенность «вечных» проблем: «Поклонник долго борется со смущением и, наконец, спрашивает: “Красавица, ты пошла бы замуж за меня?” “Извини, – холодно отвечает та. – Я не понимаю смысл этого вопроса, пока он задан в сослагательном наклонении”».
Здесь нет никакого кокетства: поставлен вопрос о бытии, причем изнутри ситуации самого бытия, возвыситься над которым не может ни девушка, ни ее поклонник. Поставленный сугубо теоретически, этот вопрос становится абсурдным, ибо предполагает некую условную ситуацию, в которой красавица не была бы сама собой, а ее поклонник тоже являлся кем-то иным. Собственно, есть только один способ узнать волю девушки – предложить: «Выходи за меня!» – то есть задать вопрос практически, совершить вопрос-поступок, предполагающий мужество нести ответственность за свое любопытство.
«Вечный» вопрос, будучи одним из тех, что задаются изнутри бытия, имеет ту же особенность: он корректно задается и успешно разрешается не столько посредством ума, сколько посредством поступка. Это означает, что «вечный» вопрос не предполагает четко сформулированного и достаточно обоснованного ответа. Решить его – значит сделать шаг, преодолевающий проблему твоего бытия, ту самую, что болезненно отразилась в уме в виде четырех слов: «в чем смысл жизни?»
Стоит обратить внимание на то, что двое – ребенок и святой – в процессе жизни не задаются вопросом о ее смысле. Их жизнь полна и тождественна радости. Так что спрашивать о смысле жизни – все равно что спрашивать о смысле радости: это абсолютная ценность, над которой нет ничего, и потому ее нельзя рассматривать как средство, но логично мыслить как последнюю цель.
Так, маленький мальчик, заметив, как рабочие затеяли ремонт улицы, спрашивает отца:
– Папа, а что делают эти люди?
– Они хотят поставить бордюры и насыпать между ними земли.
– А зачем?
– Затем, чтобы посадить цветы и сделать клумбу.
– А зачем они хотят сделать клумбу?
– Чтобы было красиво.
На этом любопытствующий ребенок умолкает. Он интуитивно понимает, что спрашивать о том, зачем нужна красота, уже нельзя. Не все на свете можно рассматривать в качестве средства – существуют вещи, являющие собой конечную цель, полагающие предел прагматизму. Именно поэтому Оскар Уайльд завершает свое эстетическое кредо фразой: «Всякое искусство совершенно бесполезно».
Тот, кто не причастен к радости, а значит, не имеет полноты бытия, ничего не знает о подлинной жизни. Именно поэтому он ищет то, что могло бы ее оправдать. Так поступает невежда, который, не умея увидеть красоты, заключенной в картине, ищет хозяйственное применение ее холсту.
«Вечные» вопросы не имеют ответа именно потому, что заданы неправильно и представляют собой, скорее, симптомы болезни, свидетельствующие о бытийной неполноте того, кто его задает. Любой ответ будет неудовлетворительным, ибо болезнь излечивается лекарством, а не рецептом, голод насыщается яствами, а не рассказами «о вкусной и здоровой пище».
Так, в ветхозаветные времена «был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла»[5]. Он был очень богат, «знаменитее всех сынов Востока». «Сыновья его сходились, делая пиры каждый в свой день, и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними». Но однажды Иов потерял все, сыновья его погибли. Страшная болезнь – проказа – поразила праведника от макушки до пяток. Сидя в куче золы вне города, он задавал свои «вечные» вопросы: зачем Бог творит человека и допускает мучения творенью рук Своих? Если же не Бог, а сам человек повинен в своих несчастьях, то почему праведники страдают, в то время как беззаконные счастливо избегают лишений и бед? И есть ли в таком случае смысл удерживать себя в Законе Божием? Товарищи, пришедшие к страдальцу, несмотря на всю свою мудрость, оказались «плохими утешителями». Тогда сам Бог говорит с Иовом «из бури». На первый взгляд, Творец уходит от ответа – Он просто рассказывает о том, как создавал мир. Но в разворачивающейся по ходу рассказа картине Иов вдруг видит Личность Художника. И это сразу снимает все вопросы: «Я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне. Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле».
Так Иов разрешил свое затруднение. И дело даже не в том, что он получил назад все, что потерял. Благодаря чистоте праведного сердца он увидел Бога и обрел ту полноту бытия, которая сама собою снимает все «вечные» вопросы.
С.А. Мазаев
Современная культура, привыкшая превыше всего ценить технологию, в изобилии предлагает «матрицы гениального мышления». Дианетика Рона Хабарда обещает усовершенствовать разум – «твое оружие» – посредством эксклюзивных схем и практик. Предложение потрудиться и пострадать ради заветной цели воспринимается как архаика и отсталость от века.
Абсолютное большинство людей имеют смутное представление о том, чем именно отличается гениальный ученый от посредственного исследователя. Предел понимания, как правило, представлен мифами и метафорами. Представление о гениальности оказывается связано с выражением «человек семи пядей во лбу». Нам кажется, будто гениальный ученый обладает каким-то особым складом ума, мыслит принципиально иными схемами, лежащими по ту сторону нашего разумения.
Между тем совершенно очевидно, что отличие гения от посредственности лежит вне интеллектуальной плоскости. Хрестоматийный пример – Шерлок Холмс и доктор Ватсон. По закону жанра, после успешного окончания очередного расследования оба друга сидят у камина и мирно беседуют о произошедших загадочных событиях. Холмс излагает Ватсону ход своих умозаключений, приведших его к разгадке криминалистической задачи. Обратим внимание на то обстоятельство, что «недалекий» Ватсон всегда оказывается в состоянии уяснить объяснение. Более того, он часто восклицает: «Боже мой! Как все оказывается просто! Я бы и сам должен был догадаться!» То есть его ум легко вмещает все то, что составляет гениальные дедуктивные схемы Холмса.