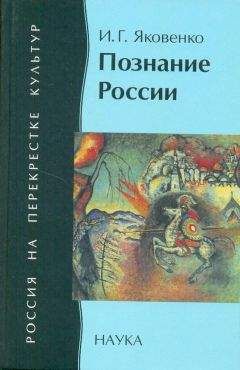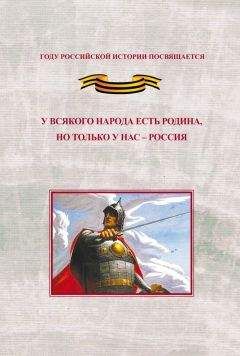Можно говорить о наличии двух часов — общемировой истории и истории собственной. Причем процесс имманентный не может быть полностью снят или подавлен. Он идет в соответствии с логикой саморазорачивания до конца.
Самые разные феномены нашей реальности — такие, например, как бурная регенерация архаических институтов на Северном Кавказе, восстановление патриархального рабства или угона скота, практика заложничества и работорговли (в самом прямом смысле этого слова — как продажа рабов для хозяйственного использования, так и продажа их на родину за выкуп) — свидетельствуют в пользу такого понимания природы неимманентного развития.
Такова общетеоретическая модель. Перейдем к конкретному наполнению, убедительно развернутому в исследовании Е. Ивахненко. Язычество на Руси не вызрело и к моменту христианизации, находилось на достаточно ранней стадии. А потому ни о каком снятии язычества, как результате самоисчерпания данной культуры и переходе к монотеистической парадигматике, речи быть не могло. Дальнейшая история Руси есть растянувшийся на тысячелетие процесс наложения относительно независимых процессов разворачивания и доразвития язычества и утверждения и эволюции христианства.
В предложенной теоретической перспективе сохранение ритуала человеческих жертвоприношений пусть в маргинализованных, вытесненных на обочину культурного пространства или превращенных формах представляется естественным. А в эпохи критические, когда происходит неизбежная деструкция исторически последующих структур и актуализация базовых архаических, человеческие жертвоприношения выплывают на поверхность как массовая форма культурной практики.
Заметим, что заложный мертвец выступает в качестве заменителя человека, а операции с ним — замена человеческого жертвоприношения. Язычество как мироощущение и жертвоприношения как магическая социальная практика неотделимы. Выкинуть из могилы заложного значило отыграться на потенциальных носителях опасности. В равной степени можно в ответ на эпидемию холеры сжечь избу колдуньи и убить ее самою. Такая культура предполагает существование рядом носителя опасности — вредоноса, который во всех критических случаях оказывается козлом отпущения. Террор функционировал по тому же культурному механизму.
Понятно, что страшные эксцессы язычества сознательно или бессознательно убираются с горизонта теоретического мышления. Здесь бессмысленны суждения в плоскости моральных оценок. Эти реалии должны быть поняты, т. е. помещены в ту систему координат, где они выступят как необходимость. Что перед нами? Чистой воды человеческие жертвоприношения. Потребность в этом ритуале находила оформление в превращенной форме, а именно, в рамках христиано-языческого синкрезиса. Со сменой парадигматики произошло переоформление исследуемой потребности в революционный террор.
Надо сказать, что человеческие жертвоприношения в широкой, общеисторической перспективе — паллиация на пути изживания людоедства. Об этом пишет, в частности, Дольник216. То есть жертвоприношение своими истоками уходит в бесконечную древность, восходя к эпохе антропогенеза, ибо вырастает из ритуального каннибализма. Стереотипы такой мощи выводятся из культурного обихода в ходе сложнейших, часто драматических цивилизационных процессов тектонического масштаба.
Наконец, помимо славян, русский народ своими истоками восходит к финно-уграм и степнякам. Данными относительно финно-угров мы не располагаем (хотя известно, что самоеды стариков убивали). А что касается степняков, от печенегов до татар, то человеческие жертвы для них привычны. Для степняков, в частности, естественно вырезание взятых в плен воинов (в отличие от женщин и детей, которые могут быть перебиты, но могут быть и обращены в рабство). Отмечавшийся европейцами XVIII–XIX вв. фатализм попавшего в плен русского солдата, готовность его в смерти восходит к сценарию вырезания плененных. Здесь вспоминается описанный И. Буниным разговор с деревенской бабой во время Первой мировой войны, которая просто не понимала, почему пленных «немцев» оставляют в живых217.
Дальнейшее разворачивание проблемы требует обратиться к теме погромов. Начнем с того, что еврейские погромы на Руси не есть порождение нового времени. Евреев громили еще во время городских восстаний Киевской Руси.
В летописи погромов выделяется событие, вошедшее в историю еврейского народа под названием «катастрофа». Речь идет об эпохе Богдана Хмельницкого. Разгром поляков под Желтыми водами и Корсунем стал сигналом для беспощадной резни поляков и евреев. Убитых насчитывают десятками тысяч, было разгромлено около семисот поселений. В это время архимандрит Иоанникий Голятовский в сочинении «Мессия Правдивый» пишет:
Мы должны вас как врагов Христа и христианства изгонять из наших городов, из всех государств, убивать вас мечом, топить в реках, губить различными родами смерти218.
Отметим принципиально важный момент. Массовое уничтожение вредоносов происходит в обществе, переживающем вхождение в переломную эпоху, связанную с выходом из Средневековья. В России этот процесс начинается с отменой крепостного права. И строго по разворачивании постреформенных процессов (с 70-х годов XIX в. и до конца Гражданской войны) по территории империи периодически прокатывались еврейские погромы219. Для культуролога очевидно, погромы — следствие процессов урбанизации и модернизации общества. Избиение оборотней, т. е. потенциальных врагов, сил, с которыми архаическое сознание связывало «непорядок» и «уклонение от должного», было реакцией на разворачивание необратимых процессов размывания и, наконец, крушения традиционного космоса. На разных этапах чиновники царского правительства по-разному соотносились с тенденцией к погромам. Одни видели в погромах средство «выпустить пар», другие — разрушительную для общества социальную опасность. В конечном счете, возобладала вторая точка зрения.
Манихейская культура требует наличия одного врага и относит на его счет действие объективных законов исторического развития. В этой перспективе избиение врагов должно остановить негативные процессы. Само избиение несет в себе успокаивающий потенциал.
Формы и масштабы погромов в ходе Гражданской войны с трудом поддаются описанию. Так, «с легкой руки мужицких батек и казацких атаманов пошло гулять понятие «коммунистический суп»… несколько еврейских коммунистов заживо варили в большом котле на центральной площади местечка и заставляли остальных евреев есть его содержимое»220. Известно и другое — белые казаки поджаривали попавших в плен махновцев на листах железа221. За всеми этими ужасами стояла некая потребность, непреоборимая и абсолютно императивная.
Коммунистический режим осознал огромный мобилизующий и психотерапевтический потенциал погрома. Увидел потенциальную возможность институционализации погрома, превращение его в конструктивный элемент государственной политики222. И в этом проявилась, во-первых, незаурядная интуиция болыпевистских лидеров и, во-вторых, незамутненность их политического мышления предрассудками морального свойства.
Кто же оборотни? Есть потенциальные оборотни — носители образа большого общества, динамики, сил деструктивных по отношению к патриархальному миру. Прежде всего, это динамичные инородцы, т. е. выраженно иноэтничные, не поддающиеся ассимиляции носители социальной динамики. Бьют евреев, немцев, армян, но не мордву или вотяков. Инородцы опасны априорно, поскольку другие. Однако этого им мало, они подтверждают свою опасность, на деле разрушая традиционный космос. Далее, это люди власти, и богатеи223, и люди города — врачи-отравители, агрономы, учителя и т. д. То есть институциональные представители большого общества, цивилизации, исторической динамики. А дальше круг расширяется до бесконечности. В него попадают архаики чистой воды, самые преданные делу сохранения традиционного синкрезиса. Субъективный смысл погрома — избить оборотней или, по крайней мере, прижать их.
Вредоноса бьют всегда и по любому поводу, так как все напасти имеют своим источником вредоноса. Так понимает мир манихейское сознание, ибо для него — «каждая объективная причина имеет фамилию, имя, отчество». Однако массовое, в пределе — тотальное, избиение вредоноса происходит на переломе от средневековья к новому времени, когда патриархальный мир фундаментально уклоняется от должного и дает главную трещину. Если превратить избиение вредоноса в государственную политику, оно выльется в самоистребление патриархальной массы.
Заложный мертвец, русалка, еврей, соседка колдунья, богач-кровопийца, враг народа, коррупционер, лицо кавказской национальности — суть номинации единого и вечного персонажа русского традиционного космоса: вредоноса. Это он ответственен за все несчастия и невзгоды, от него все напасти. Это он способен абсолютно на все. Это он потребляет в ритуальных целях кровь христианских младенцев и плетет заговоры с целью извести Святую Русь. Как пишет А. Ахиезер, еврей — это просто ярлык для тренировки манихейского сознания. Между 1917 и 1946 гг. вредоноса звали «враг народа»224. В 1947 г. традиционалист с чувством глубокого удовлетворения уяснил для себя, что враг народа, все- таки, еще и еврей.