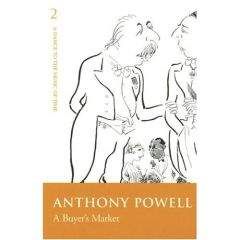И далее:
Самые ранние, самые рудиментарные фантазии связаны с сенсорным переживанием, и, будучи аффективной интерпретацией телесных ощущений, они естественным образом характеризуются теми свойствами, которые Фрейд описывал как принадлежащие к «первичному процессу»: это неспособность координировать импульсы, отсутствие чувства времени, отсутствие восприятия противоречия и отрицание. Далее, на этом уровне нет еще отчетливого восприятия внешней реальности. Переживание зависит от ответа в системе «все или ничего», и отсутствие удовлетворения воспринимается как недвусмысленное зло. Утрата, неудовлетворенность и депривация чувственно воспринимаются как боль. (Ibid., p. 88[9])
Кляйн обращала внимание на то, что когда подобные превербальные эмоции и фантазии заново переживаются в ситуации переноса, они возникают как «воспоминание в ощущении» (Klein, 1957, p. 180). Эти ранние, непереработанные фантазии Кристева описывала как «телесные метафоры», в которых фантазия становится репрезентацией влечения и «смещением – или скорее боковым отростком, – предшествующим идее и языку» (Kristeva, 2001, p. 150). Как ранее заметила Айзекс, такие ранние телесные метафоры не исчезают, они продолжают действовать наряду со словами и независимо от слов. Я полагаю, что повышенная способность устанавливать эмоциональный контакт и удивительные побуждающие память процессы, сопровождающие многие переживания в переносе и в контрпереносе, являются результатом проективной идентификации этих ранних телесных фантазий.
В «Революции поэтического языка» (1984) Кристева пишет, что многим обязана Мелани Кляйн, на идеи которой она опиралась при работе над развитием лингвистической теории, реабилитирующей представление о доэдипальном теле. Работая в рамках лакановского подхода, Кристева тем не менее думает, что Лакан просмотрел процессы, происходящие до стадии зеркала, например то, каким образом телесные влечения ищут и находят выражение в языке. По мнению Кристевой, описание ранней доэдипальной стадии у Кляйн соответствует тому, что сама она называет «семиотическое». Несмотря на то что это понятие принадлежит другой концептуальной парадигме, оно может быть очень полезно, и я его позаимствую. Говоря о конституирующем развитие языка процессе означения, Кристева описывает две отдельные модальности: семиотическое и символическое[10]. Диалектическая связь этих модальностей и определяет тип дискурса, с которым мы имеем дело. «Семиотическое – это психосоматическая модальность процесса означения» (Kristeva, 1984, p. 28). Это поле эмоционального, привязанного к влечениям (влечению к жизни, влечению к смерти), проявляющееся в языковой просодии (выразительность, контрастирование, тон, ритм речи и т. п.), а не в означающем смысле слов. Семиотическое ассоциируется также с материнским телом – первым источником ритма и движения у каждого человеческого существа. Кристева описывает некий «пренарративный кокон [envelope – конверт]» – «эмоциональное переживание, одновременно психическое и субъективное, основанное на влечениях в интерперсональном контексте» (Kristeva, 2000, p. 773). Отказываясь от попытки выявить логику раннего нарратива, Кристева обращается к кляйнианской и посткляйнианской мысли о важной роли тревоги, о необходимости распознавания тревоги матерью или аналитиком как основе формирования мышления. С точки зрения Кристевой, язык обретает смысл только с развитием и артикуляцией символического и семиотического процессов (Kristeva, 1984; Barrett, 2011). К примеру, песня, в которой радостные слова положены на грустную музыку, может привести слушателя в состояние спутанности. Кристева рассматривает материнское тело прежде всего как источник переживания звука, голоса, ритма для младенца. Она вводит термин «хора» (сhora) для описания подвижности, кинетических ритмов, берущих начало в биологических влечениях и обеспечивающих связь между звуком и телом человека. Это понятие связано с платоновским «khora»[11] – «восприемницей», «пространством», в котором обитают «формы». Кристева пишет, что влечения включают «семиотические» функции, устремляющие тело младенца к матери и соединяющие его с ней (я думаю, это можно соотнести с тем, что Бион называл сначала «протопсихической», а затем «сомато-психотической» системой) (Meltzer, 1986; Bion, 1961. По-моему, такие семиотические составляющие ранних отношений младенца с матерью и его фантазий о материнском теле играют существенную роль в том, как мы впоследствии воспринимаем мир и общаемся с себе подобными[12]. Такие нюансы, как ритм речи пациента; «музыкальность» его словесного выражения; интенсивность, с которой он произносит отдельные слова; чувствительность к звукам, паузам и особенностям положения в пространстве по отношению к аналитику – все это может иметь в процессе аналитического сеанса огромное значение.
Существует множество исследований о ранних телесных фантазиях младенца и его связи с матерью, но я предпочла пользоваться именно введенным Кристевой понятием «семиотического», поскольку, по-моему, именно в нем подчеркнута роль таких фантазий в качестве первичного процесса осмысления и сообщения при развитии речи и усвоении языка. В соответствии с моими задачами я расширила это понятие, которое теперь включает и другие телесные проявления, не обязательно связанные с особенностями речи пациента, хотя можно было бы сказать, что они все еще являются частью его «языка» (такие, как неустранимые состояния телесного напряжения, или противоположное этому – слияние тела пациента с кушеткой; физическое пространство, которое пациенту требуется занять и освоить, прежде чем начать говорить, и т. п.). Например, мужчина-пациент приводил многочисленные примеры того, насколько он уступчив, гибок и предупредителен в отношении других, в то время как эти другие выглядели в его рассказе ригидными и неспособными учитывать чужие обстоятельства. Удивительно было видеть, что все это время его тело оставалось чрезвычайно напряженным. Мы могли бы тут сказать, что при отсутствии взаимодействия между семиотическим и символическим измерениями семиотическая форма телесно воплощает отщепленную часть психического, переживающую и сообщающую ощущения и чувства, которые невозможно обработать ни символически, ни даже на уровне символической эквивалентности. Она становится телесным выражением того, что Бион описывал как телесные «прото-мысли» (Bion, 1962), и соответствует данной им характеристике протопсихической системы: «…поскольку на этом уровне телесное и психическое не дифференцированы, резонно полагать, что страдание, происходящее на этом уровне, может заявлять о себе как телесным, так и психологическим способом» (Bion, 1961, p. 102).
Такие ранние телесные фантазии могут сосуществовать в нас с другими телесными манифестациями, которые возникли вследствие защитных процессов, хотя и примитивных, однако гораздо более организованных, и которые являются результатом проективной идентификации в тело бессознательных фантазий о непереносимых свойствах самого себя и объекта, – наподобие тех, что Розенфельд называет при описании психосоматических процессов «психотическими островами» (Rosenfeld, 2001; Bronstein, 2014).
Бессознательная фантазия в аналитической ситуации
Сюзан Айзекс сделала важное замечание: бессознательные фантазии нельзя наблюдать непосредственно. Определить природу бессознательной фантазии можно по косвенным признакам, собирая сведения по частям, постепенно составляя представление о том, как та или иная фантазия отыгрывается в аналитической ситуации и как она действует.
Клинический случай
Г-жа С., юрист 43 лет, обратилась за анализом вследствие депрессии и панических атак. Она пережила череду близких симбиотических отношений различной степени сексуализации как с мужчинами, так и с женщинами, обрывая одни отношения, только чтобы вступить в другие. У г-жи С. были очень тесные отношения с матерью. Она была совершенно убеждена, будто всегда точно знает, что ее мать думает и чего хочет. Отец был скорее ускользающей фигурой, кем-то на расстоянии. Он, казалось, никогда особенно не интересовался ни ею, ни ее матерью. Обратиться ко мне пациентке посоветовал старый друг их семьи, г-н Д.
С самого начала анализа (который проходил пять раз в неделю) я отметила, что все ассоциации пациентки касались в основном ее внутренних переживаний. Часто она оставляла меня в полном неведении относительно того, что происходило в ее жизни. Ее речь изобиловала словами типа «что-то»: «что-то случилось по дороге на сеанс», «что-то несущественное, но я почувствовала себя беспомощной». Сообщив нечто подобное, она пускалась затем в описания смутных состояний своей души, создавая во мне ощущение, будто я должна собрать все свое внимание, чтобы представить, о чем она говорит. С. создавала атмосферу предвосхищения; я должна была следовать за нею, стараясь понять, что у нее на уме, что это за таинственный предмет или чувство, о котором она размышляет и который мне предстоит разгадать. Иногда она говорила настолько тихо, что мне приходилось делать усилие, чтобы ее услышать. Кроме того, иногда ее слова затягивались таким образом, что мне приходилось, опережая ее, додумывать конец фразы или следующее слово. Это ни разу не было озвучено, но неизменно достигало ожидаемого результата. Даже когда она начинала медленно рассказывать нечто более внятное о своих отношениях с другими, ее слова всегда производили на меня то же самое действие.