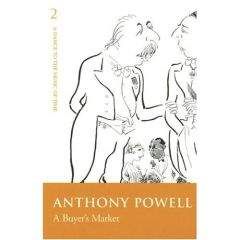П.: Я стала очень маленькой. Такое чувство, будто картины на стене теперь сильно отодвинулись и потолок сдвинулся. Он движется все выше и выше, он очень далеко.
[Это показалось мне понятным. То, что я перестала следовать за ней, произвело на нее сильное действие. Я вышла из-под власти чар, и она теперь испугана. Я сказала:]
А.: Вы внезапно почувствовали, что я стала далекой и отдельной от вас. Я перестала следовать за вами так, как вам этого хотелось. Это заставило вас почувствовать себя брошенной, испуганной, далекой и маленькой, как будто я совершенно потеряла связь с вами, эмоционально и физически.
П.: [Она заплакала. Я ощутила, что теперь она, несомненно, испытывает чувства.] Да, это так и работает. Это связано: быть отдельными, быть далеко друг от друга.
[Я чувствую, что совершенно пришла в себя и что мы с нею стараемся нечто сделать вместе.]
Пауза.
[Она выглядит смущенной. Я чувствую, что ей нелегко было мне это рассказать. Я подумала о девочке, которая соединяет своих родителей.]
А.: Значит, вы больше не одна. То, что я сказала, позволило вам почувствовать, что я все еще здесь, с вами, это сняло ваш страх, что вы не можете меня контролировать, позволило понять, что я не изменилась. Вы теперь благодарны мне и вы соединяете меня и г-на Д., превращаете нас в пару, будто соединяете своих родителей. Но вам также важно знать, что именно вы это делаете. Это успокаивает вас: между нами ничего не изменилось.
Обсуждение: о сенсорном опыте
…между восприятием реальности и всемогущественным замещением реальности фантазией идет долгий бой, и продвижение вперед в этом бою возможно только очень маленькими шагами…
Segal, 1990
На примере приведенного клинического случая я намерена показать, какие формы бессознательные фантазии принимают в течение сеанса и как они проявляются в отношениях переноса – контрпереноса. Мы также можем наблюдать здесь трансформацию форм символического по мере того, как они появляются в материале пациентки: от потока ассоциаций к искажению восприятия реальности (размерности, пространства, расстояния, что можно было бы назвать трансформацией в галлюциноз) и к сновидению наяву. Сюда же можно отнести сон пациентки, который я вспомнила во время сеанса.
Сигал писала: «…действие инстинкта выражено и репрезентировано в психической жизни фантазией удовлетворения этого инстинкта соответствующим объектом… Поскольку инстинкты действуют с самого рождения, можно полагать, что некие примитивные фантазии существуют и действуют также с момента рождения» (Segal, 1964a, p. 191). Подобные примитивные фантазии образуются вследствие соматических и сенсорных ощущений младенца в тесном контакте с телом матери. Они продолжают существовать в виде телесных фантазий и получают выражение в нашей чувствительности к звукам, ритмам, физической дистанции от других или близости к ним, к чужому взгляду, к прикосновению. Они близко соотносятся с ощущением боли/удовольствия и безопасности/опасности.
Чтобы наполниться смыслом, процесс символизации должен находиться в тесном живом контакте с биологическими процессами, аффектами и чувствами (Barrett, 2011). В силу своих особенностей ранние телесные фантазии способны вызывать сильные ощущения в аналитике, привлекая наше внимание к примитивным бессознательным фантазиям, которые не могут быть интегрированы в протекающем одновременно с этим в аналитическом сеансе процессе символизации. При нормальном развитии подобные «психосоматические» ощущения присоединяются к символическому способу функционирования и окрашивают так или иначе манеру, в которой мы общаемся с другими. У некоторых пациентов, сильно подверженных действию ранней тревоги и проявляющихся в семиотической модальности телесных фантазий, подобные состояния могут смещаться относительно отражающего их символического дискурса. Таким образом, сенсорный и аффективный уровни коммуникации, которые Кляйн описывала как «воспоминания в ощущениях [memory in feelings – память в чувствах»[13]] (Klein, 1961, p. 318; 1975, p. 180), дают нам важный ключ к пониманию переживаемых и проявляющихся в сеансе фантазий и тревог.
Г-жа С. стремилась к симбиотическим отношениям, способным избавить ее от потенциального переживания отделенности от других и разлуки в целом. Будучи вынуждена осознать состояние разлуки, она воссоздала объект, который никуда не уехал (не уезжает), переживаемый ею псевдогаллюцинаторным образом. В зависимости от того, что она в него проецировала, объект в ее фантазии обретал разные черты: он мог играть роль суперэго и упрекать ее, бранить ее или нахваливать, но он должен был присутствовать постоянно и не имел права на собственную жизнь. Чтобы удерживать меня в своей фантазии как «хороший» объект, она должна была проецировать в меня себя и всегда иметь меня при себе, отказывая мне в свободе думать и вообще «быть» отдельным от нее объектом. Ее способ поддерживать со мной хорошие отношения состоял в том, чтобы удерживать меня в фантазии как идеализированный объект, слитый с нею во взаимной идентификации нарциссического типа.
В анализе описываемые мною явления отражались не только в манифестном содержании ассоциаций пациентки. Это выражалось скорее в манере ее речи, в том, как она вынуждала меня невольно следовать за нею – подобно тому, как она следовала за девочкой в своем сновидении: отслеживая каждый шаг, не спуская с нее глаз, замечая, что она переживает, представляя, о чем она думает, и т. п. При этом зрительное наблюдение, как оно представлено в ее сновидении, – «я слежу за ней» – преобразовалось путем смещения в слуховое – «я слушаю ее». Ей было необходимо «слышать», что я следую за ней. Речь г-жи С. стала единственной возможностью поддерживать физический контакт со мной, поскольку следовать за нею меня вынуждало не столько содержание того, что она говорила, сколько ее специфическая манера пользоваться словами. По-моему, слова представляли для нее конкретные физические объекты, соединяющие ее тело с моим. Я чувствовала, что вынуждена следовать за нею, но не могла в действительности взаимодействовать с пациенткой, поскольку это означало бы признание различий между нами. В то же время она бессознательно контролировала точное безопасное для нее расстояние между нами. Когда я подвигалась ближе, она отдалялась, проецируя в меня свою нужду таким образом, что это становилось «моим желанием» и прихотью, чтобы она проходила у меня анализ. В первой части сеанса я эмпатически идентифицировалась с ее трудной ситуацией и ее потенциальным отчаянием, но думаю, что в какой-то момент поддалась ей и разыграла роль, которую, согласно ее ожиданиям, и должна была сыграть. Требование ко мне было: «если ты любишь меня, то будь со мной, но не как независимый и отдельный от меня объект». Однако когда я это проинтерпретировала, она приняла мою интерпретацию, не сказала «нет», согласилась с нею. Несмотря на то что в моей интерпретации содержался намек на ее переживания в переносе, она оказалась именно такой, какой ее ожидала услышать пациентка, и это не привело к инсайту. Я предложила ей печенья, от которых она отказалась, поскольку мы обе, так сказать, пытались отыскать идеальную булочную. Если бы я продолжила интерпретировать в этом направлении, между нами возникла бы идеальная гармония, но в анализе не было бы никакого движения. Мои слова стали для нее подтверждением сенсорного переживания единства со мной. В чем бы состояло такое единство? На непереработанном, достаточно примитивном уровне понимания оно означало бы единственный способ достичь физической безопасности. Отчасти это включало бы желание быть любимой, стать моим идеальным объектом, вовлечь меня в заботу о ее теле всеми возможными способами, орально и визуально, чтобы я «ела ее глазами». Отчасти это означало бы ее желание удерживать контроль надо мною, с тем чтобы я оставалась безопасным объектом для нее. Если пациентка в своей бессознательной фантазии завладела мною, то можно полагать, это вызывало у нее тревогу, что я либо ненавижу ее и вследствие этого ее покину, либо попытаюсь силой в нее проникнуть. Как показывает история С., она заканчивала многие отношения, когда начинала испытывать в них клаустрофобическую тревогу.
Здесь кажется важным, что моя аналитическая функция оказалась практически отнятой, и в определенный момент, когда пациентка говорила: «Я была в отчаянии. Такого отчаяния больше нет, или оно выглядит иначе. Теперь мне страшно, что я вас могу потерять. В этом страхе снова отчаяние…», – я больше не могла следовать за нею. Думаю, я переживала нечто вроде чувства отчуждения; формально она говорила о чувствах, но ее речь выглядела пустой, лишенной чувств, была скорее имитацией эмоциональной связи между нами. Я, пожалуй, слишком сильно старалась свести воедино и осознать два разных владевших мною в тот момент переживания: стремление следовать за нею и понимать предполагаемый смысл ее слов – и стремление осознать воздействие на меня физических особенностей ее речи.