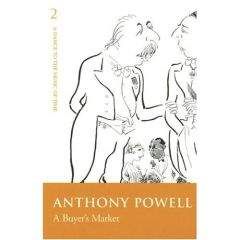4
Устное сообщение Фрейда на заседании его Венского общества.
Например, Segal (1952), Meltzer (1986), Harris-Williams (2010) и Lia Pistener de Cortinas (2009) среди прочих.
«…Я получил четкое представление о структуре истерии. Все возвращается и восходит к репродукции сцен. Некоторых можно достичь непосредственно, других – только посредством представляющей их фантазии. Эти фантазии происходят из того, что было услышано некогда, но понято впоследствии… Они суть защитные структуры, сублимации фактов, украшенная их версия и в то же время служат самоутешению. Источник их происхождения, вероятно, – мастурбационные фантазии» (Freud, 1897a, p. 239).
Эти фантазии включали в себя первичную сцену, кастрацию, соблазнение взрослым. Лапланш интересно дискутирует с Фрейдом по вопросу о необходимости связывать это представление с архаическим периодом (Freud, 1915d, 1916; Laplanche, Pontalis, 1973; Perron, 2001).
В статье «О вытеснении» Фрейд пишет: «Мы в нашей дискуссии пока имели дело с вытеснением инстинктивного представителя, под последним мы понимаем идею (Vorstellung) или группу идей, катектированную определенным количеством психической энергии (либидо или интерес), происходящей из инстинкта. Критическое наблюдение вынуждает нас теперь разделить то, что мы некогда считали целым; поскольку мы видим, что вынуждены принимать во внимание, помимо идеи, некоторый другой элемент, представляющий инстинкты, и что вытеснение этого другого элемента может совершаться совсем не таким путем, как вытеснение идеи. Этому другому элементу психического представителя присвоено название “аффективной составляющей” (Affektbetrag). Он соответствует инстинкту в той мере, в которой последний отделяется от идеи и находит выражение, пропорциональное своему объему, в том, что мы воспринимаем как аффект» (1915c, p. 152).
«а). Ранние фантазии основаны в основном на оральных импульсах, связанных со вкусом, запахом, прикосновением (рта и губ), на кинестетических, висцеральных и прочих чувственных ощущениях; они в первую очередь начинают восприниматься как связанные с опытом “помещения чего-то внутрь себя” (сосание и глотание), нежели с чем-то иным. Визуальная составляющая их незначительна.
b). Эти ощущения (и образы) суть телесные переживания, поначалу едва соотносимые с внешним пространственным объектом. (Кинестетические, генитальные и висцеральные элементы обычно также с ним не соотносятся.) Они придают фантазии конкретное телесное качество, ощущение “себя самого”, переживаемого в теле. На этом этапе образы едва отличимы от конкретных переживаний и внешних восприятий. Кожа еще не воспринимается как граница между внутренней и внешней реальностью.
c). Присутствие визуальной составляющей восприятия постепенно усиливается, соединяется с опытом тактильного восприятия, пространственно дифференцируется. Ранние зрительные образы остаются эйдетическими по своему качеству – примерно до возраста трех-четырех лет. Они живые, конкретные, часто ребенок путает воображаемое и увиденное. Более того, они долго остаются тесно связанными с телесными реакциями: они объединяются с эмоциями и требуют немедленного отреагирования. (Многое из того, что здесь описано таким обобщенным образом, подробно исследовано в психологии)» (Isaacs, 1948, p. 92).
Кристева соединила лингвистический и семиотический подходы с психоаналитическим. Несмотря на то что ее очень вдохновляли идеи Кляйн о ранних фантазиях, ее теоретический подход тесно связан с идеями Лакана. Представление Кристевой о «семиотическом» имеет много общего с кляйнианским и посткляйнианским взглядом на процессы раннего психического функционирования, но мне кажется, что теоретические расхождения становятся яснее в связи с представлением о «символическом». Кристева писала, что дополнила кляйнианское понимание «символического» представлением о важности фаллической стадии, во время которой, по ее мнению, происходит «соединение символа и катексиса мышления в пациенте» (Kristeva, 2000, p. 744). Кристева опирается на описание Лаканом роли отцовского фаллоса в развитии языка. Эту мысль опротестовала Сигал: хотя Кристева вполне справедливо утверждает, будто Кляйн нигде открыто не говорит о связи младенца с отцом в деле формирования символа, она не принимает во внимание работы посткляйнианцев, таких как сама Сигал и Бриттон, подчеркивавших роль отца при формировании символического функционирования (Segal, 2001; Britton, 1989). Между кляйнианской и лакановской теориями существует множество расхождений в определении роли отца и особенно символического значения фаллоса в формировании символической функции, на анализе которых я не имею возможности здесь остановиться. Упомяну только различие между кляйновским понятием символизации и лакановским понятием «символического порядка» (см.: Borossa et al., 2014).
В диалоге «Тимей». По словам Кристевой, «Хора, как он [Платон] ее описывает, – это пространство до пространства, это кормилица и поглотительница в одном лице, предшествующая Единому, Отцу, миру и даже слогу. Это модальность смысла до означения, которую я называю “семиотическое”» (Kristeva, 1984, p. 19 – 106; 2014, p. 73).
Существует множество исследований взаимодействия между матерью и младенцем, учитывающих включенные в него семиотические элементы. См., например: Powers, Trevarthen (2009); Stern (1974); Trevarthen (1986, 1993); Salomonsson (2007).
«Когда такие превербальные переживания и фантазии оживают в ситуации переноса, они возникают, так сказать, как “воспоминание в ощущении [память в чувствах]”, а затем восстанавливаются и называются словом с помощью аналитика. Таким же образом слова отыскиваются, когда мы реконструируем и описываем другие феномены, принадлежащие ранним периодам развития. На самом деле мы не можем перевести язык бессознательного в язык сознаваемого, не снабжая его словами, принадлежащими области нашего сознания» (Klein, 1975, p. 180).
Глядя на это иначе, можно было бы сказать, что здесь актуально сформулированное Лапланшем понятие о соблазняющей загадочности другого (1997). Проблема близости и отдельности, дистанции, которая переживается на физическом уровне, создает определенное дополнительное психоэмоциональное обстоятельство, а именно переживание психической отдельности, оставляющей пациентку с невыносимым чувством непонимания, где я нахожусь по отношению к ней и где находится она по отношению ко мне.