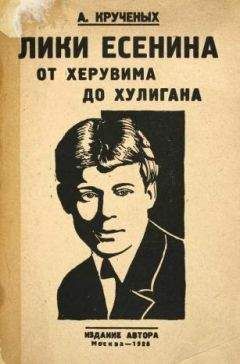К Клычкову начинают тянуться и младшие его современники. Восхищенный его лирикой, юный Дмитрий Семёновский (впоследствии известный поэт) писал М. Горькому осенью 1913 года: «Недавно вышла книжка стихов Клычкова „Потаенный сад“, — какая красота! По-моему, Клычков — первый и самый интересный из современных русских стихотворцев»[7]. Очевидно, свой восторг Д. Семёновский выразил и самому автору — это явствует из сохранившегося ответного письма Клычкова от 13 августа 1913 года с его лирической концовкой: «У Вас так хорошо начало письма, что я хочу так закончить свое послание. Есть ли что краше первой любви? Ничего нет слаже, прекраснее и радостнее. Ходите, ходите по миру с широко открытыми глазами, мир входит Вам теперь в душу и над Вашей уносящейся, заходящей юностью загораются звезды и всплывает волшебный месяц недолгих очарований. Пойте о них, пока есть голос, пока не набежали тучи, ибо еще большее счастье — песня»[8].
В письмах Клычкова тех лет постоянно встречаются суждения и размышления о поэзии и о творчестве: «Любовь моя, солнышко мое, — милая, прекрасная Муза! И как это Бог ухитрился создать тебя! Море, горы, звезды, и небо, осень и весна — не так чудесны, как Ты — Незримая, Непостижная!» Или: «…что суть творчество? Это послушание, долгое, долгое послушничество, приступление к Вышним, к Сущим вне нашего ока и вне нашей души! Только в этом для меня соль и значение моей беспутной жизни!» (Русская литература. 1971. № 2. С. 152).
После этих возвышенных слов всё яснее начинаешь понимать, что поэзия рождалась у Клычкова «неоскорбляемой частью души» (М. Пришвин). Но нелегкий семейный быт (а жил молодой поэт между 1910 и 1914 годами в основном в родной деревне Дубровки) иногда побуждал его поделиться своими болями и бедами с близкими людьми: «Друг мой, есть ли на белом свете еще такой сквернослов, ругатель, издеватель, как мой батька! Одним словом, Господь с ним! Обидно одно только: он мешает, мешает, зная это, почти умышленно мешает; хотя какое горе: ведь он мешает мне только вирши мои сочинять! Эка невидаль, кто их не сочиняет! Да, может, к добру: меньше испакостишь бумаги! Меньше истерзаешь ушей! Одно слово, может: к добру! Может! Может, даже очень может! Только мне-то, мне-то тяжело, мне-то прискорбно смотреть на свою бедную, милую юность, у которой дорога мимо кабака! Буду ли я теперь когда сам, сам пить это проклятое зелье! Нет, дорогой, не быть мне вольному да сильному! Держит судьбу за замком лютый Змий зеленый! <…> Да, так иногда не хочется, до зареза не хочется ни на что смотреть, не хочется жить, в этом вечном скандале, вечной ссоре, а душе хочется тишины непостижимой, любви необъемлемой, чистоты и красы райской! Тяжело у меня, друг мой, на душе…» (из письма П. А. Журову конца 1911 года, ЦГАЛИ).
Отчаяние и сомнения посещали Клычкова и позже, даже во времена наступающего литературного признания. Так, в письме Д. Семёновского М. Горькому от 1 февраля 1914 года читаем: «Клычков разочаровался в своих стихах и хочет бросить стихописание. Только если он — истинный, прирожденный поэт, пожалуй, не бросит, несмотря ни на что» (АГ). Этот прогноз Семёновского, разумеется, не мог не оправдаться, хотя несколько месяцев спустя и для самого Клычкова, и для его музы начались серьезные испытания — он был призван в армию и воевал с немцами на передовых позициях.
Окопные годы (когда, по словам поэта, «не раз уже заглядывалась» на него «злая тетка Смерть, чтобы навсегда <…> уложить спать тяжелым сном в широкой братской могиле»[9]) стали началом становления Клычкова-прозаика — его первый роман «Сахарный немец» выйдет в свет в 1925 году… По возвращении же с фронта, совпавшем с Февральской революцией 1917 года, Клычков возобновляет свою поэтическую деятельность.
В 1918 году начинается его тесное творческое и деловое общение с Есениным. Они основывают «Московскую трудовую артель художников слова», под маркой которой Клычков переиздает свои первые стихотворные сборники. В том же издательстве выходит еще одна книга поэта «Дуб-равна», составленная в основном из стихов, написанных еще до войны. Среди них — стихотворение 1914 года «На чужбине, далёко от родины…», лирический отклик на которое содержится в есенинских «Ключах Марии» (1918):
«…Прав поэт, истинно прекрасный народный поэт, Сергей Клычков, говорящий нам, что
Уж несется предзорняя конница,
Утонувши в тумане по грудь,
И березки прощаются, клонятся,
Словно в дальний собралися путь
Он первый увидел, что земля поехала, он видит, что эта предзорняя конница увозит ее к новым берегам, он видит, что березки, сидящие в телеге земли, прощаются с нашей старой орбитой, старым воздухом и старыми тучами»[10].
Есенинское ощущение изменения земной орбиты вовсе не было субъективным — в те годы расколотая революцией Русь была объята по-истине апокалиптическим вихрем… Был захвачен им и Клычков. В 1919 году поэт оказывается в Крыму вместе со своей женой Е. А. Лобовой (Клычковой), которая много лет спустя вспоминала, что Клычкову тогда чудом удалось избежать расстрела — сначала у махновцев, затем у «белых». Во второй половине 1921 года, чуть ли не пешком через всю Россию, оборванный и заросший бородой, поэт возвращается в Москву и сразу же активно включается в литературную жизнь.
В 1922–1923 годах столичные и периферийные журналы России, а также газеты и журналы берлинской эмиграции («Голос России», «Сполохи», «Эпопея») публикуют его новые стихи, вошедшие затем в книгу «Домашние песни» (1923). В этих стихотворениях, по-прежнему пронизанных светлой печалью, проявляется и новое качество — Клычков прозревает, угадывает за реальной картиной порушенной российской жизни (где лишь «заря крылом разбитым, осыпая перья вниз, бьется по могильным плитам да по крышам изб») сверхчувственную ее сущность:
Здесь сквозь туман синеют сёла,
Пылает призрачная Русь…
«Призрачная Русь» Клычкова соприродна тому «невидимому народному Иерусалиму», о котором тогда же писал Николай Клюев: «Познал я, что невидимый народный Иерусалим — не сказка, а близкая и самая родимая подлинность, познал я, что кроме видимого устройства жизни русского народа как государства или вообще человеческого общества существует тайная, скрытая от гордых взоров иерархия, церковь невидимая — Святая Русь…»[11]
Неизъяснимый свет Святой Руси льется и со страниц прозы Клычкова 20-х годов… Это ощущали наиболее близкие ему по духу современники. Так, о первом его романе «Сахарный немец» П. Журов писал Д. Семёновскому (18 февраля 1925 года): «Роман… полон сказочной яви, которую сам Сережа знает на корню, которой он сам живет доброй своей половиной и которая передалась ему из темной ясновидящей мужицкой души. Для многих его роман невыносим — это идеология суеверия и темноты, это колдовские зачатия, это волшебство, обращенный мир, сплошные вымыслы! И меж тем, в этом… привидевшемся мире всё приобретает характер и смысл неподвижной достоверности, словно сказка изъявляет скрытую основу внешних, вытканных поверхностно нашим дневным ощущением событий» (ГАИО). Дальнейшие размышления над «Сахарным немцем» побудили Журова обратиться к самому Клычкову со словами предостережения:
«О Романе Твоем всего не скажешь, не скажешь даже в личной беседе, даже на ухо. Ты понимаешь сам. Роман же вообще замечательный и поразительный, и мне даже жаль, что Ты его уже написал.
Берегись, берегись, Сережа, мне больше всего за Тебя страшно.
Уж очень отчетлив, и удивителен, и грозен очерченный Тобой путь. Розмашь и походка у Тебя богатырские, сила огромная, руки крылатые. Ты вошел в зрелое и зорькое (так. — С. С.) мужество… Но так уж издавна: где герой, там и костер. Где Ахилл, там и стрела Париса.
Твой круг не замкнулся, опасность еще далека. Но с какой-то вышки уже следит за тобой неусыпный враг. Прими обреченность, тогда довершишь до конца»[12].
Однако еще раньше Клычков не только стал ощущать, как «следит за ним» метафизический «неусыпный враг», но и подвергся угрозам вполне реальным. Вот полный текст недатированного письма поэта, написанного, скорее всего, в 1922 или 1923 году: «Уважаемый и дорогой Алексей Максимович! Очень Вас благодарю за заступничество. Местный исполком пока что распорядился меня не трогать впредь до разрешения вопроса обо мне Троцким. Они оказались очень славными парнями. Что касается Троцкого, то я готов принять какое угодно наказание, лишь бы только оно не касалось никого, кроме меня лично (секретарь Склянского[13] говорил мне о реквизиции имущества отца и братьев). Принести горе другим мне тяжело, — а иначе сделать не могу. Помогите мне, Алексей Максимович! Сергей Клычков.