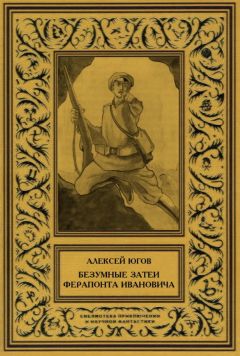— Да. Я полагаю, что он должен быть известен каждому егерскому офицеру.
— Очень рад. Хотя я и не сомневался, что отзывы офицерства о моем друге будут одинаковы.
— Как?! Полковник Карцев — ваш друг?
Капустин, не отвечая, извлек из внутреннего кармана пальто довольно объемистый бумажник и, вытащив оттуда длинную фотографическую карточку, протянул ее офицеру.
Яхонтов, взглянув на карточку, улыбнулся, и лицо его приняло вдруг домашнее выражение.
— Так... А почему этот мальчуган Анатолия Петровича — у вас на коленях?
— Мишук-то? Да, ведь, это же мой крестник! — радостно засуетился Капустин. — Вы видите, — бросился он показывать офицеру, — часы у меня на шнурке привязаны, а он их держит в ручонке. Страшно часы любил! Все время, бывало, приставал: «дай посусаю!», а засмотришься, так и того!.. И, между прочим, знаете ли, никак не мог понять, что часы — в часовом кармашке. — «Дядя, говорит, у котолого часики в блюске».
Офицер засмеялся.
— Так, так... Ну, так давайте познакомимся! — сказал он, вставая и протягивая руку:
— Яхонтов.
Капустин поспешно вскочил и еще раз назвал себя.
Усевшись в кресла, оба они долго молчали, испытывая какое-то хорошее смущение. Наконец, офицер спросил:
— Так, очень возможно, что мы встречались даже у них в Екатеринбурге?
— Даже наверное. Я сразу же припомнил вас, как только увидел в кафе...
— Ох, знаете, вы опять напомнили мне нашу несчастную встречу!.. — сказал офицер, покраснев, — вы меня простите, доктор... но...
— Что вы, что вы? наша встреча-то несчастная?! Не потому ли только, что несколько капелек пива оросили мою ничтожную особу? Да вы знаете, что я должен благодарить бога за эту встречу! Пусть я стал жертвой вашего вполне, добавлю, справедливого гнева, но зато я увидел истинно русского офицера, который не простит никому даже тени неуважения к русской армии... Господин капитан!..
— Называйте меня — Георгий Александрович.
— Благодарю вас... Георгий Александрович, я еще давеча говорил вам, что хочу беседовать с вами и вот теперь прошу разрешения вашего говорить с вами обо всем с полной откровенностью, ничего не утаивая и не замалчивая... как с братом, как с человеком, в сердце которого живет та же, что и во мне, любовь к родине и ненависть к банде, поправшей все святое для русского человека!.,
— Ферапонт Иванович! я сам буду просить вас о полном доверии и откровенности. Даю вам слово, офицера, что все, что вы сочтете нужным хранить в тайне, навсегда останется между нами... Я слушаю...
Впрочем, еще один вопрос: вы давно расстались с полковником Карцевым?
— С самого Екатеринбурга. Это был как раз прощальный снимок перед эвакуацией. А вам известно что-нибудь?
— Нет, к сожалению. Знаю только, что в последнее время он был прикомандирован к штабу II армии.
— Да, знаете ли, если бы я не потерял с ним связи, то, пожалуй, давно бы потушил свой диогенов фонарь, — в раздумьи сказал Ферапонт Иванович. — Однако, — добавил он, глядя на офицера, — я верю, что бог не слишком поздно послал мне встречу с вами. Может быть, все еще поправимо...
— Ферапонт Иванович! — не вытерпел Яхонтов, — вы меня мучаете!
Капустину нравилось разжигать любопытство офицера.
— Итак, хорошо, — сказал он, — говорить прямо, открыто, никого не щадя?
Офицер кивнул головой.
— Хорошо... начну с нашего столкновения в кафе: вы совершенно правильно истолковали мою улыбку, она относилась именно к сидевшим в кафе офицерам, впрочем, не только к ним. Сеть моих ассоциаций раскинулась в тот момент очень далеко. Они захватили многое, очень многое, не пощадив даже одноэтажного особняка на берегу Иртыша... — взглянув на офицера, Капустин убедился, что тот его понял. — И вот, все эти мысли и вызвали мою улыбку. Но, вы должны чувствовать, Георгий Александрович, что улыбка эта не могла быть адекватной моим переживаниям. Нет, Георгий Александрович! заплакать мне в тот момент хотелось, голову спрятать, знаете, как страус, чтобы не видеть, не слышать ничего!.. Что я в этот момент думал... Думал я о том позоре, о той грязи, в которой потонуло наше белое дело — дело спасения родины, начатое так мужественно и прекрасно! Думал я о ворах, карьеристах, трусах, о полчищах предателей, а главное — о страшном и, может быть, смертельном шоке... Вам не знакомо, я думаю, это слово, по крайней мере тот смысл, который мы вкладываем в него. Шок — это, говоря просто, нервный удар, внезапное потрясение нервной системы, иногда приостанавливающее все ее высшие функции, иногда кончающееся смертью, как доказано это в опытах с лабораторными животными. Может быть шок чисто психогенного происхождения. И вот, думая о судьбах нашей родины, пытаясь найти объяснение тому дикому факту, что большевики царствуют на Руси уже третий год, вопреки воле всего народа, я нахожу только одно слово — шок! Соборная психика народа (мне противно сказать «коллективная») сначала от чудовищной бойни народов, потом от бойни братоубийственной потерпела страшнейшее потрясение. Затормозились надолго все высшие сознательные функции целого народа. И, распластанный в состоянии шока, народ русский, подобно лабораторному животному, покорно подставляет свое тело под нож кремлевского экспериментатора!.. А Сибирь?!.. Посмотрите, что совершается кругом: повальное бегство, «подводная» война, «смазывание пяток», дезертирство психическое и физическое! Инстинкт самосохранения — вот единственное, что пощадил шок!.. И вы знаете, что в этом бегстве слились все — армия и тыл. Нет большой разницы между военным и штатским... Все!.. — Капустин вскочил и зашагал по комнате.
Офицер молчал.
— О, если бы я ошибался! — вскричал Ферапонт Иванович, не помня себя, — тогда... тогда я давно бы уже разбил свой диогенов фонарь, найдя человека... Но, где было найти его, когда даже во главе нашей армии — бездарность, карьеристы и трусы?! Георгий Александрович, ну, возьмем настоящий момент: скажите, разве пользуется наш новый главнокомандующий хоть каким-нибудь авторитетом в глазах армии и населения? разве читает кто-нибудь его приказы, где он обещает не сдавать Омска и пишет о пятнадцати казачьих полках, брошенных к Тоболу?!.. Ну, скажите, — кто еще? — Каппель, Пепеляев, вы скажете? Но, во-первых, действительно ли они — вожди, а, во-вторых, — их губит обоих этот отвратительный душок демократизма... Ну?! Кто дальше? — в позе вызова остановился Капустин перед офицером.
— Дитерихс... Вы о нем подумали? — тихо сказал Яхонтов, взглянув на него.
— Дитерихс? — изумился Капустин, — что ж... да и об нем думал в свое время, но, по правде сказать, для меня он всегда был довольно серой фигурой, как, должно быть, и для военных. Нет! знаете, здесь нужен могучий и, главное, двухголовый диктатор, так, чтобы одна голова была военной, другая — гражданской. А ваш Дитерихс... мне
приходилось от компетентных лиц слышать, что он и в военном-то отношении довольно посредственная фигура.
— Да... вот так же в свое время говорили о Барклае-де-Толли, — как бы в раздумьи сказал Яхонтов.
— Как?!.. Что вы сказали?.. Барклай-де-Толли?!.. Да что же между ними общего?!! — воскликнул Капустин.
— Да! — упрямо и с раздражением сказал офицер, — я утверждаю на основании некоторого знакомства и с кругами ставки и с положением на фронте, что «серый», как вы его назвали, Дитерихс смело может быть назван Барклаем-де-Толли сибирской армии. Вы, очевидно, не знаете, что еще до Тобола Дитерихс настаивал перед «верховным» на переводе столицы в Иркутск и на планомерном отводе всех армий. И даже для невоенного становится ясной (к сожалению, теперь) вся проницательность этого человека. Сохранение и концентрирование живой силы и всех материальных средств, кратчайшие коммуникационные линии, наконец, непосредственная близость к основным силам союзников!.. Семенову пришлось бы ретироваться, его вытеснили бы. Правда, возражали, что слишком много будет утрачено территории, а в особенности — людского резерва. Но, я бы сказал: черт с ним, с таким резервом! Эти мужички показали нам, как хотят они защищать родину!.. А там у нас была бы, знаете, какая опора в уссурийском и забайкальском казачестве?!.. Наконец, кто знает, может быть бы и «братья» чехи оказались сговорчивее, находясь возле самого моря... И вот, все это предвидел «серый» Дитерихс, но, к несчастью, у него и судьба-то общая с Барклаем. Ни для кого не гайна, что после труб и литавр наш Сахаров будет продолжать отступление. Только не думаю, что это придаст ему сходство с Кутузовым... Конечно, Омск обречен, а что дальше...
— Господи! — воскликнул Капустин, — неужели и вас не пощадил шок?!.. Вы утверждаете, что Омск никакими силами удержать нельзя?..
— Да, утверждаю... Вы и сами, кажется, видите это прекрасно. Здесь дело не в отдельных личностях.
— Георгий Александрович! — горестно и возмущенно вскричал Капустин, — да, ведь, я уверяю, что если пройтись по одним кафе и ресторанам, то можно набрать тысячную армию из одних только офицеров. А по всему-то городу?!